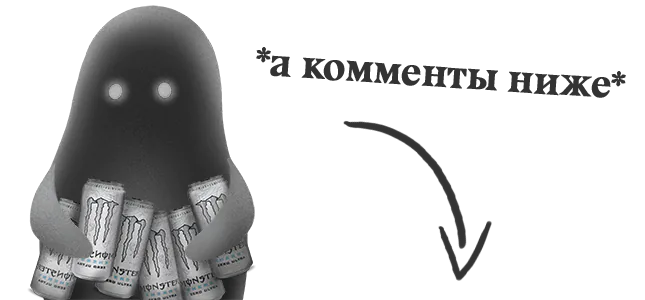Восторгаться Америкой сегодняшнего дня может, пожалуй, только эксцентрик. Только глухой, слепой и немой не может не заметить дегенерацию Америки и то, какой ключевой показатель коррелирует с её упадком. И нет, это не рейтинг Dow Jones или NASDAQ и даже не уровень инфляции.
Лос-Анджелес, столица Третьего Мира, Ноябрь 2018 года. К чему приводят идеалистические мечты?
Современная Америка подобна Китаю XIII–XIV вв., который европейские визитёры описывали не иначе как богатейший край и страну чудес, не подозревая, что они видят перед собой загнивающую страну. Незнакомых с предметом современных русских можно сравнить с теми визитёрами.
Кто-то скажет: «Сравнили бедную и убогую Рашку с богатыми США. Нам бы так жить как загнивающей Америке!» Но это будет некорректно. Мы, положа руку на сердце, гордая, великая, но побеждённая региональная держава, над которой несколько раз в ХХ веке совершили gangbang, а США – мировой лидер, богатство которого вполне сравнимо с Древним Римом. Понятно, что материально мы беднее, с климатом нам тоже не очень повезло, не говоря уже о географическом положении. Зато в вопросах идеологии и культурного здоровья общества мы ещё не дошли до той грани, когда ключевые политики заявляют, что у женщин может иметься пенис, и это становится новостями или, что чувства и предпочтения фетишистов, любителей однополого анального секса или обязательное наличие туалетов для трансгендеров становятся вопросами национальной важности.

Современная Россия, я надеюсь, пока находится на периферии мирового прогресса, где высшей добродетелью и идеалом стало построение системы апартеида для собственного коренного населения. Safespaces, куда нельзя белокожим, Whiteness studies с рабочими местами только для цветных, законы, защищающие все идентичности, кроме белой. Социальные драмы, где заранее известны роли: белая мать – героиня с обязательным ребенком мулатом, мужественным бойфрендом-негром, которые, как всегда, борются с мировым злом – подлым блондином и, разумеется, сексистом, фашистом и гомофобом, добавьте любое другое слово с -ist по вкусу. Ох, как всё это напоминает одно государство XX века, название которого – это аббревиатура из 4 букв, наследие которого слишком нам знакомо, да и во многом всё еще с нами!
Ведущий Don Lemon с CNN разъясняет, что главная проблема Америки – белые люди. Где-то мы это уже проходили.
То, что Америка выродилась, и там всё очень плохо, для многих дорогих россиян представляется надуманной ложью. Запад не такой!! Ха-ха-ха, загнивающий Запад, да это же слоган совковых пропагандистов… А вы туда съездите и посмотрите своими глазами на Бронкс, Детройт, Сан-Франциско, Атланту, Балтимор, Лос-Анджелес… А можете съездить ближе: в Европу, Париж и увидеть собственными глазами Demography is destiny. Ответьте мне, хотели бы вы сменить свою Москву или Питер на Детройт с Балтимором? И я уверен, что огромное количество людей ответят: «Да, конечно, хотим!» Слишком стоек бренд Американской Мечты, и это законно. Америка ХХ века, откуда родом эта самая мечта, действительно была Меккой. Тем местом, где всем хорошо. Олигархам, рабочим, интеллигентам, предпринимателям, учёным, белым, буддистами, евреям, индусам.
Влюбиться в Америку середины XX века несложно, даже эстетически она краше современной. Сложно избавиться от ощущения, что та Америка исчезает на наших глазах. Но ничего! Как один визит в Париж убивает всю романтику и вызывает только натянутую улыбочку от фразы «Увидеть Париж и умереть», так и встреча с настоящей Америкой убедит пересмотреть взгляд на неё.
Современная Филадельфия
Однако моя цель не развить в вас презрение к Америке, это современные США способны сделать сами за себя. Напротив, я просто провёл подготовительную работу перед тем, как отправить вас в путешествие во времени в ту самую блаженную послевоенную Америку. Я просто хотел сделать акцент на том, что это совсем другая страна.
Поглядеть на ту страну, я предлагаю глазами русской остарбайтерши, угнанной на работы в Германию, и решившей не возвращаться в СССР после войны. Нашим гидом выступит известный русский писатель второй волны эмиграции – Виктор Константинович Морт (1900-1992).
https://www.youtube.com/watch?v=ComYAeX_8DQ
Нью-Йорк 1941 года
Вглядитесь в этот город и эти лица и то, как тяжко было им жить в этом ужасном тоталитарном и патриархальном мире… Представьте, как в этом городе буквально месяцами ранее проходили многотысячные митинги в поддержку Германии и против участия Америки в европейской войне.
Как известно, литература представителей второй эмиграции слабо известна в России по сравнению с другими волнами. А это абсолютно незаслуженно, ибо из всех волн эмиграции эта наиболее близка нам во всём: по духу, по идеологии и по происхождению. Среди её представителей нет ни аристократов, ни либеральных интеллигентов, ни цареборцов, ни советских мажоров, ни нацменов-русофобов. Среди них практически все свои. Простые русские люди. Фашисты? Бросьте это советское ругательство! Большинство бежавших остарбайтеров пахали за три копейки на работах в Германии, но не стеснялись сказать, что там работалось лучше, чем в родной стране Советов. Да и относились к ним там человечнее. Были ли среди них те, кто работал на немцев не только на заводах…? Были! Но пусть кинет в меня камень тот, кто считает, что сотрудник НКВД, заградотрядов или системы ГУЛАГ более чист, чем тот, кто «сотрудничал» с немцами.

Вернемся к рассказу. Его героиня – молодая русская женщина, счастливая (ново)американка, наслаждающаяся чудесной жизнью в Америке 1950-х и 1960-х. Внезапно она осознаёт, что совсем позабыла про семью, оставшуюся в Советской Украине в родном Глухове. Зов крови! Девушка решает туда поехать. Любящий муж с трудом соглашается с её решением (он не ревнует, нет, а справедливо опасается за безопасность жены-туристки в Стране Советов), но в итоге отпускает жену и спонсирует её поездку. Женщина приезжает в СССР, и перед нами открывается бесценная картина того, как выглядел Советский союз 1960-х, незамутненным глазами русского человека, прожившего полжизни на Западе.
Москва 1965 года, видео British Pathe.
Увы, это печальное зрелище, даже несмотря на то, что СССР 1960-х – это не отвратительный шизофренический концлагерь 1920-х и 1930-х, а вполне себе пригодная для жизни страна. Более того, это период пика советской мощи, науки и культуры. Полет Гагарина, Спутник – это та эпоха, когда нашим бабушкам и дедушкам наконец дали по собственной квартире. Когда не было голода, и люди жили в относительном достатке. В кино крутили «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию», и весело гуляли шестидесятники. Конечно, там были проблемы, а идеология коммунизма оставалась на месте, но это было относительно человечное время. Тем не менее взгляд русской девушки-эмигрантки из США бескомпромиссен – ужасная бедная страна, которая держит простых людей, словно крепостных крестьян. Имея все материальные возможности, героиня даже не мечтает вывезти мать из СССР в Америку. Кто ж ей даст? В итоге женщина возвращается домой сломленной, ей становится тошно от своего американского достатка, так как она не может забыть убогий быт своей семьи на Украине и примириться с тем фактом, что не в силах помочь семье.
Киев 1960-х, СССР.
В сухом остатке мы имеем бесценное произведение, написанное на отменном русском языке и основанное на реальных событиях. Мы можем проследить за судьбой женщины остарбайтера, прочувствовать, какой русским людям виделась Америка 1950-х и 1960-х (та самая, в которую были влюблены советские мажоры-стиляги), и прожить вместе с главной героиней поездку в Советский Союз 1960-х.
На этой ноте я закончу, и предлагаю вам начать чтение.
Комкор Сидорчук
Мне нечего добавить к довольно эмоциональной аннотации Комкора Сидорчука, помимо того, что Виктор Константинович Морт, произведение которого мы подготовили для вас с Local Crew, – это один из незаслуженно недооценённых писателей второй волны русской эмиграции, чьи произведения восполняют важный пробел между первой и третьей волнами эмиграции.
Большинство примерно представляют себе русский Париж 1920-х и 1930-х или Нью-Йорк с советскими эмигрантами 1970-х и 1980-х, но русская Америка, где жили миллионы наших соотечественников с сильным национальным чувством, практически неизвестна. Проза Морта –это уникальная возможность увидеть тот мир!
Кстати, на Ватникстане вы можете прочитать три других его рассказа: раз, два, три.
Я надеюсь, как повесть Арсения Несмелова, которую я помогал готовить для Local Crew, открыла кому-то мир русской эмиграции Харбина, повесть «Белая Ворона» Виктора Морта станет для читателей отправной точкой в мир II эмиграции.

Повесть «Белая Ворона»
Опубликовано в США в 1970-е.
Виктор Константинович Морт (1900-1992, Вашингтон).
Эту правдивую историю я услышал прошлой осенью в Торонто. Постарался записать, как можно точнее, только изменил имена.
«Никто не имеет права жить лучше своего народа».
Адам Мицкевич.
***
— Ну так вот, когда началась война, мне было пятнадцать лет. Семья наша состояла из отца, матери, двух братьев и меня. Правда, отца уже не было с нами — его сослали. За что — не знали, но мы всегда надеялись, что он вернется. Он был старшим мастером на мельнице Пружанского в провинциальном украинском городке Глухове, где мы жили. Когда первые бомбы посыпались на наши города, братьев мобилизовали, и мы с мамой остались вдвоем.
Рассказывать об этих днях и месяцах нечего. Вы знаете, писалось об этом много. Важно то, что, когда мне исполнилось семнадцать лет, я была крепкая, здоровая, как многие украинские девушки. Меня схватили и силой отправили на работу в Германию. Я даже не смогла дать знать маме, что случилось. Меня отвезли на вокзал, погрузили в вагон. Таких, как я, были сотни. Мне не было бы так страшно, если бы мама знала, что со мной. А так… представьте себе её отчаяние и ужас. Мало ли, что она могла думать. Похитили? Убили? Погибла от несчастного случая? Умирает где-нибудь от ран? Помочь никто не мог. Я уехала. Работали на различных заводах под обстрелом союзников, прилагая все усилия, и посылала, когда только могла, маме весточки, чтобы её успокоить тем, что я пока жива. Но так и не знала, получила ли она хоть одну писульку. Бедная, одинокая женщина! Ведь рассчитывать, что братья вернутся, я не могла, всё было в руках Божьих.
И вот, когда война кончилась, тысячи наших потянулись на родину, а я — нет! Скажите мне, как мог получиться у человека такой душевный изъян? Как? Я, которая так любила мать, была любимицей семьи, вдруг решила не возвращаться домой и всеми силами старалась не попасть на транспорт. Был ли это страх или боязнь наказания за работу у немцев — не знаю. Правда, советские представители были подчас грубы и жестоки в обращении с нами, «врагами народа», работавшими на немцев в военное время, но они же прекрасно знали, что мы были рабами, подневольными людьми, делавшими всё из-под палки, в голоде и в холоде. Знали ведь?! Некоторые из них откровенно говорили, что нас дома по головке не погладят. А один симпатичный лейтенант просто мне сказал:
— Можешь не ехать! Удирай, девка! Оставайся тут. Там тебе сладко не будет.
А я уже увидела, как живут люди, даже в условиях войны. Мы все видели, что немцы жили лучше наших даже в тяжёлое военное время; они имели больше, чем мы в мирное. Мне тоже захотелось нарядов, улыбок, хорошей жизни — как у людей, одним словом. Может быть, я заслуживала тогда осуждения за это — не знаю, но сейчас, вот уже в эти дни, я считаю, что это был большой грех по отношению к моим близким. Возможно, что я всё-таки вернулась бы домой, пусть бы меня наказали за несуществующую вину; я была б опять под родной крышей, под тёплым крылышком мамы. Но… бес попутал — я крепко влюбилась в солдата — американца. Он приносил мне шоколад, консервы и, подбирая немецкие слова, через пень-колоду просил не ехать домой, а стать его женой.
Послевоенная оккупированная Германия, 1947 год.
Мы даже объясниться не могли по-человечески. Правду говорят, что язык любви интернационален… То, что мы любили друг друга, было ясно без слов. Он забрал меня из пересыльного лагеря, поселил у немецкого бауэра и начал энергично хлопотать, боясь, что его часть куда-нибудь перебросят, и ему придётся везти меня с собой. Его напористость и энергия сделали своё дело, нас обвенчали где-то в Баварии, в горах, в маленькой церкви. Боясь и стараясь оградить меня от всяких неприятностей, он достал мне «липовую» метрику, которые дошлые дельцы в Мюнхене делали сотнями, превращая нас в старых эмигрантов и их детей. Муж получил месячный отпуск и с первым же транспортом повёз меня в Америку как жену американского солдата.
И, представьте, я не боялась; была рада и счастлива. Ведь это была первая любовь в моей жизни. Я не знаю, бывает ли вторая и третья, но у меня так не получилось. Она оказалась — первая и, надеюсь, последняя.
Семья его: мать, отец, братья и сёстры приняли меня как родную. Я сразу же почувствовала, что я дома, только не могла разговаривать — больше улыбалась и смеялась. Отец мужа нашёл учительницу, русскую эмигрантку, и мы принялись за английский язык. Успехи я показывала большие и к тому времени, когда Джон вернулся домой из Европы, я его встретила двумя сюрпризами: сыном и умением бегло говорить по-английский. Он меня тоже растрогал, так как от нечего делать начал заниматься русским языком в Германии и смешно пытался со мной объясняться. Это было для него очень трудно, но увидев, что мой английский успешно продвигается вперед, оставил ненужные усилия и окунулся в работу, чтобы мы смогли уехать от его родных и зажить своим домом.
Господи! Жизнь в Америке вскружила мне голову! Никогда не представляла, что люди могут так жить. Все эти машины, начиная от стиральной и заканчивая пылесосом, вызвали моё изумление и восторг. И так жили простые рабочие, уборщицы, ресторанные кухарки, одним словом, та самая беднота, которая у нас на родине еле-еле сводила концы с концами.
Муж меня любил, я его тоже, сынок рос как на дрожжах. И уже через полгода мы въехали в свой дом. Двухэтажный дом на супружескую пару, а на родине — в одной пятикомнатной квартире — пять семейств на одну кухню. Я не могла не сравнивать, уж очень страшен был контраст. И, захваченная своим счастьем, сытым и хорошим существованием, я забыла обо всём на свете, и о далёком Глухове, конечно, тоже. Вся жизнь моя сконцентрировалась в моём доме, в моей семье, в интересах и заботах о Джоне и сыне.
Я всё реже стала вспоминать и думать о маме и братьях. Прожитое там стало казаться ненастоящим, нереальным, как тяжелый, далёкий сон.
Знаете такое выражение «безоблачное счастье?» Так вот оно у меня и было: большое, радостное, светлое, без единого пятнышка. Вознаградил меня Господь, а за что? Заслужила ли я? Муж устроился на две работы, хотя и уставал, но говорил:
— Пока я в силах — я должен. Не забывай, что у нас ещё и дочка будет. Всё, что я зарабатываю — это для нас, для тебя, для детей!
Летом, как правило, мы уезжали к морю на две-три недели. Он тогда отдыхал, полностью наслаждаясь нашим обществом.
В нашем городе была небольшая русская колония и церковка, которую я аккуратно посещала. Я молилась, благодарила Бога за мою жизнь, а отец с сыном гуляли, ожидая, пока я выйду. Заложенное когда-то в мою душу матерью давало свои плоды. Будучи хорошей женой и матерью, я не забывала церкви и добрых дел: жертвовала, куда могла, помогала своему сестричеству во всяких начинаниях, только не всегда соглашалась, что украшение церкви новым паникадилом или ковром важнее, чем помощь нуждающейся семье где-нибудь в Бразилии или во Франции. По-моему, сирота, поставленная на ноги, важнее новых хоругвей или иконы. И делала это сама, как могла. Муж не контролировал моих расходов, веря и зная, что я думаю о благе семьи так же, как и он.
Он никогда не «зарывался», чтобы кому-то доказать, что у него мебель лучше, автомобиль новее и телевизор последней марки.
— Все придёт в своё время! — говорил он, — Хоть я и американец, но покупок в рассрочку не признаю.
Через три года радостной жизни я родила дочку, и это ещё больше скрепило нашу семью.
— Дай Бог, чтобы всегда так было!
Люди бывали у нас, мы ходили к ним, но большая часть наших знакомых была американцами. Я не хотела навязывать мужу своих единоверцев при его незнании русского языка. Да и склочный народ наши русские.
Жизнь моя была заполнена, и я считала, что другой и быть не может. Однажды на церковном «базаре» я помогала одной милой пожилой даме продавать всякие рукоделия и безделушки. Муж остался дома с детьми. Это он любил; я была всегда спокойна, что он всё сделает и всё сумеет. Так вот, эта дама, держа в руках «матрёшку», сказала:
— Я когда-то этих «матрёшек» делала как подарки друзьям, на чайники, для тепла. Помните это?
— А вы откуда, Валерия Ивановна?
— С Украины, из Глухова, слыхали о таком городе?
Сердце у меня забилось, как птица в руках жестокого человека. Глухов?! Город моего детства? Моей юности! Моей мамы! Моей семьи!
Я смотрела на эту женщину, всколыхнувшую в моей душе всё, что давным-давно покрылось пеплом забвения, и не могла сказать ни слова.
— Господи, ведь кроме Америки есть ещё на свете город Глухов, и в нём, быть может, ещё живёт моя мать, мои братья, мой отец, а я ни разу о них и не вспомнила! Разве это не смертный грех? И не молилась даже. Как будто моя жизнь началась с замужества, а до этого ничего не было. Как так могло случиться? Что это за страшный провал в моей памяти?! Как могло быть, что спокойная, счастливая жизнь вытравила из моей души мою родную семью, мою мать, вскормившую меня, воспитавшую и давшую мне всё то хорошее, что я внесла в дом моего мужа и в души моих детей? Как же это? Разве так бывает?
И я заплакала. Я давно уже не плакала, не было причины. И вдруг тут, на глазах у публики, слёзы, огромные, горькие, неудержимые и обжигающие.
Мне дали воды, успокоили и, когда я сказала о причине, люди недоумевающе переглянулись и… не поверили.
— Милая, — сказала Валерия Ивановна, — мало ли кто оставил свою Одессу или Киев, или даже Смоленск? Так разве из-за этого плачут?
Не буду же я посвящать всех в самое сокровенное? Да, у многих из них тоже остались на родине близкие. Так что же, из-за этого приходить в отчаяние?
Сев в машину, я уехала домой. Я знала, что еду в свою «крепость», где у меня надежная защита, помощь и понимание.
Обеспокоенный муж бросился ко мне.
— Ты заболела? Тебе не хорошо? Что случилось?
Я, как могла рассказала ему, что произошло со мной, но именно в разговоре с ним я делала ударение не на том, что у меня на родине осталась покинутая и забытая мамочка и братья, а на свою забывчивость. Ведь весь ужас я видела в этом. И мне показалось, что он меня понял, потому что сказал несколько дней спустя:
— Я уже знаю адрес бюро розысков в Москве на Воздвиженке 4. Мы можем попытаться узнать о судьбах твоих.
— Господи, неужели это так легко осуществить? Ах, Джон, мой милый Джон!
Но я вспомнила мою работу у немцев и, что это преступление против родины. А брак с американцем тоже сегодня минус. Я это ему сказала.
— Ну, хорошо, — ответил он, — я подумаю. Может быть ты права. Там у вас сейчас многое изменилось. Это я вижу из нашей печати.
Светлая голова! Знаете, что он придумал? На свидетельстве о нашем браке был адрес церкви, где мы венчались, и он послал туда заказное письмо (писала я) и вложил два доллара. Кто-то из русских получил это письмо, я не знаю, но они исполнили нашу просьбу, и через три месяца пришла справка Международного Красного Креста, пересланная нам из Германии, где было сказано, что мать моя жива, но в перепискусо мной вступать не желает.
— Видишь!? — воскликнула я, плача, — Видишь? Это не она не хочет, это они не хотят! Это я в их глазах не заслужила права на переписку.
Муж молчал. Но я знала его характер: так он добился, чтобы я стала его женой, так он не остановится перед тем, чтобы осушить мои слезы.
Ведь за эти пятнадцать лет он их ещё никогда не видел. Да и не заслужил он их… но я потеряла душевный покой. Были ли это угрызения совести, тоска по родному, «голос предков» — не знаю. Когда он бывал дома, я ещё крепилась, думала, что кажусь ему такой, как раньше. Но наедине с собой я не находила себе места. Что сделать? Как получить весточку, как послать свою? Когда я начала с ним разговор на эту тему, он обнял меня и сказал:
— Валя, верь мне, не спрашивай, но знай, я что-то предпринимаю и ничего не забыл. Твой покой — счастье моего дома, моей семьи, моих детей и моё тоже. Я написал большое письмо нашему посольству в Москве. Не забудь, что я солдат, что я сражался; это у нас никогда не забывается. Жди. Я так же, как и ты, с нетерпением жду ответа оттуда…
И теперь, когда приходила почта, я бросалась к почтовому ящику, ведь на конверте будет наша марка и внутри частичка воздуха с родной земли. Вот, когда я почувствовала, что я русская и, что слово «родина» так много значит!
Даже будучи обеспеченной и сытой, я поняла, что это ещё не всё.
Снились ли мне прежде сны? Не помню. А вот теперь, как будто бы распаковала склад фотокарточек более чем двадцатилетней давности, и передо мною во сне стал появляться тот Глухов, который я знала, будучи девчонкой. То мне снилась моя Синявская улица, где мы жили, то предместье Глухова Павловка, где летом купался весь город, то дома, построенные миллионером Терещенко. А то вдруг вижу себя, несущей на коромысле воду от колонки, стоявшей на углу. Ведь воды-то в домах Глухова не было. Брали или из колонок, или из колодцев и носили, а совсем давно её возили по дворам в бочках, по две копейки за ведро. Или вдруг приснится, как братья бегут, извините, в уборную, во дворе. Ведь всего того, что я имею здесь, там тогда и в помине не было…

А вот я, в нарядной блузке и юбке, иду в кино, а на тротуарах, у нас, стараниями всё того же Терещенко, огромные плиты, им износу не будет. Всё вижу отчетливо, ясно, как будто бы только вчера покинула этот город. А лица матери и братьев никогда во сне не видела, а ведь ложась спать, даже молилась об этом. Это, что — Божье наказание было?
Спала беспокойно, мятежно: стонала, вскрикивала, просыпалась…
Муж меня успокаивал, как мог. Но я уже поняла, что мой душевный покой утерян надолго. Что могло меня вылечить? Только письмо оттуда. Это я сознавала ясно…
Наступил все-таки этот долгожданный день. Я была с дочерью у зубного врача и, возвратившись, обнаружила в почтовом ящике письмо из посольства. Там в очень вежливой форме сообщали, что сделали всё возможное, а заканчивали… адресом матери. Тем самым! Та же Синявская улица, тот же самый номер. Господи Боже мой! Ничто не изменилось. Я здесь наслаждаюсь комфортом, спокойной жизнью, а там продолжает теплиться жизнь моих родных. Кто жив? Как они живут? Я была рада, я была бесконечно рада, теперь у меня есть надежда узнать что-нибудь о них.
Когда приехал с работы муж, дети уже спали (он возвращался со второй работы поздно), я, взволнованная и счастливая, показала ему письмо.
— Что же ты хочешь делать?
— Написать, немедленно написать. Послать денег, послать посылку. Все шлют.
— Не спеши, — сказал он вразумительно, — помнишь справку из Москвы, что мать не хочет с тобой переписываться? За этим что-то кроется.
— Не верю, неправда!
— Я тоже не верю, но надо быть осторожными. Пусть эти милые люди, что прислали нам справку, напишут по адресу матери письмо о том, что ты жива, что ты просишь мать ответить и, чтобы ответ её пришел не нам в Америку, а в Германию, к этим людям, а они перешлют её письмо нам. А там уж будет видно. Согласна?
Я не была согласна, я не могла ждать, но знала, что мой муж всегда рассуждает правильно, я ему всегда верила, и он был для меня авторитетом. У меня никогда не было основания упрекнуть его, а отсюда рождалось уважение и уверенность, что лучше поступить по его советам, а не по моим желаниям. И это всегда оправдывалось, я в этом убеждалась не раз. Когда мы уходили от его родных, мне хотелось сразу купить большой дом и всё то, что было уже у них, чтобы моё было и лучше и новее. А он говорил, что не надо зарываться, и купил дом, достаточный для семьи из четырёх, стиральную машину, холодильник и… только. А теперь у нас дом другой и всё есть.
— Ты же сама говоришь, что поспешишь – людей насмешишь, — говаривал он.
Одним словом, мы опять послали этим людям два доллара и письмо, которое мы хотели, чтобы получила мама.
Внешне я как будто успокоилась, но внутри у меня всё дрожало. Я считала дни, хотя знала, что при такой усложненной переписке ответа долго не будет. Колесо нашей жизни вращалось, как прежде. Я, его главный винт, на котором держался дом и семья, работала исправно, но чувство напряженности и нервности не покидало меня.
Я не заводила разговоров с мужем на эту тему, а он, как всегда тактичный и внимательный, старался развеселить и отвлечь от точивших мыслей, тревожных и настойчивых. Дни шли.
Рождество того памятного года мы справляли в тесном кругу нашей семьи. К обеду были приглашены родители мужа. И вот, когда я пошла на кухню, чтобы принести ореховый торт, кофе и мороженое для детей, моё возвращение было встречено всеобщим молчанием. Даже дети приутихли. Я удивилась, а когда подошла к столу, у меня задрожали ноги – на белой скатерти, опираясь на ветку хвои, стоял конверт с чужой маркой.
— Джон, — сказала я, задыхаясь.
— Да? — ответил он.
Все молчали. Я села, но взять конверта не могла, руки отяжелели. Я жалко улыбнулась, и слёзы потекли по щекам на новое платье.
— Вскрой же! — настаивал муж.
Видя мое состояние, он сам вскрыл конверт, вынул письмо, дал его мне.
Почерк был мамин.
Все письма, что я потом получала, я собирала и складывала в шкатулку, а вот это первое всегда со мной. Вот, что писала мама.
«Дорогая Валечка! Ты даже не представляешь, как поразила меня весть от чужих людей, что ты жива и здорова, и живешь в Германии. А ведь мы давно в мыслях уже похоронили тебя после твоего исчезновения и сейчас, через 22 года опять найти тебя, – это такое счастье, такая радость, такое Божье благословение моей усталой старости, что даже слов нет, чтобы описать.
Живём мы на прежнем месте, только этажом ниже, так удобнее. Володя со мной, а Коля так и не вернулся с фронта. Мы живем неплохо. Правда, можно было бы и лучше, но благодарим Бога и за это. У нас всё есть. Жить стало значительно легче. Продуктов полно — только покупай. Как же ты там живешь?
Ты, мое дитятко, на чужбине, без языка, без близких. Тоскуешь, небось, по родине. Мы это понимаем. Но если устроилась, работаешь, то, это я думаю — ничего. Тебе, наверное, не трудно, а? Но есть чужой хлеб тоже мало радости. Пиши, моя милая, пиши, моя родная, пиши моя деточка. Помни о своей мамочке, как она помнила о тебе все эти годы. Вымолила я у Господа тебя на старости лет и теперь знаю, что ты жива и здорова. Целую твои глазки, деточка моя ненаглядная. Твоя мама».
Это письмо я читала сотни раз. А тогда, впервые, за праздничным столом, со мной была такая истерика, я так кричала, я так плакала от радости и от муки, что испортила весь обед и меня уложили. Дети были очень напуганы, и отец никак не мог им втолковать причину моих слёз.

— Так радоваться же надо! — резонно сказала Ляля.
— Женщины, у них все наоборот, — добавил наш старший, Юрка.
Конец I части.
Два дня я не могла прийти в себя. Эта радость меня ранила настолько, что я расхворалась. Послала матери сертификат на двадцать долларов, посылку и огромнейшее, на восьми страницах, письмо. Я писала, как я живу, где я живу, какая у меня семья, как я счастлива и как теперь буду стараться сделать счастливыми и маму, и Володю.
Благоразумный муж останавливал меня — чтоб не расхваливала в письме Америку и призывал к сдержанности, но я не могла остановиться, слова лились, как вода из источника.
Ведь это я рассказывала своей родной матери, о себе… Ну как было не похвастаться? Что же мне было скрывать? Через месяц пришло благодарственное письмо с указанием, что денег и всего прочего больше посылать не надо, так как они ни в чём не нуждаются. Заканчивалось письмо страшными словами.
«Ты помнишь, деточка, твою кроватку, в которой ты спала до отъезда? Я на ней спала теперь, но и она прямо развалилась, а матрас прохудился, и я на твои деньги купила себе и то, и другое. Теперь стало куда лучше».
Кровать, на которой я спала подростком. Она уже тогда держалась еле-еле. В каких же условиях они живут? Чтобы старая женщина спала на детской кровати? Эти строки сводили меня с ума, но на все вопросы мать отписывалась пустяковыми ответами, а Володя не написал ни разу.
Муж старался объяснить, что они не могут быть откровенными, но я хотела правды. Я хотела знать, что они едят, в каких жилищных условиях находятся и каковы их материальные возможности. Где работает Володя, хватает ли им на жизнь?
Ни на один из этих вопросов я не получила ответа, за исключением стереотипных фраз о спокойной жизни, об отсутствии нужды и болезней. Обо мне же, о детях, всегда мама спрашивала, вникая в такие детали, в какие может стараться вникнуть бабушка, никогда не видевшая своих внучат. В каждом письме она всё убедительнее и настойчивее просила не присылать денег и посылок.
Только мой Джон, мой любимый муж мог додуматься до того, что он мне предложил: забрать маму сюда, в Америку.
— Как же мне самой не пришла в голову такая мысль?! Почему?
Ответ мамы был самый неожиданный: «Никуда я ехать не собираюсь и не поеду. Мне здесь на родине лучше всего, а если ты будешь настаивать и начинать хлопоты, то я переписку прекращу раз и навсегда!»
При мягкости маминого характера такая её решительность меня и удивила, и испугала. Что за этим кроется? Чего она не договаривает? Что скрывает? Почему она не пишет о том, что хотела бы переехать — это было мне ясно, но всё же её замалчивание ответов на мои вопросы лишили меня сна и душевного покоя. Я похудела, стала раздражительной.
Одним словом, появление мамы на горизонте моей жизни не дало мне ни радости, ни того удовлетворения, на которое мы рассчитывали…
Тогда мой Джон после долгих раздумий сказал, как-то:
— Валя, если мама твоя не хочет ехать к нам, то ты должна навестить её!
— Я? Я поеду домой? Я увижу мамочку? Но это такой расход. И как же я оставлю детей?
У Джона на всё были готовы продуманные ответы.
— Поехать необходимо, потому что иначе ты изведешься окончательно. Расход не важен, если это связано с твоим здоровьем, с твоим душевным благополучием. Может это вылечит тебя от того смятения сердца, в котором ты находишься последние два года. Что касается детей, то моя мать переедет к нам и будет это время (три-четыре недели) жить в нашем доме, готовить и смотреть за порядком.
— Как не любить такого мужа!
Начались хлопоты с анкетами, вопросами, ответами через специальные бюро и конторы. По совету мужа, я не написала матери о своих планах, потому что, (сказал он) если она воспротивится моему приезду, то я должна буду сделать так, как хочет мать. И… не поехать. А я уже вся сейчас захвачена этой идеей.
Это правда: мысль, что я выйду на Глуховском вокзале, поеду на извозчике на Синявскую улицу, обниму маму и вдохну аромат родных вещей, родного дома, родной земли — сводила меня с ума.
Я вспомнила запах маминых платьев, кухни, лопухов, росших во дворе, запах весны моей жизни, расцветавшей на улицах этого города, и я жила только этими мыслями: радостью встречи и живыми осязаемыми ощущениями, когда буду держать мамочку в своих объятиях.
Стыдно сознаться, но я была настолько в плену этих представлений, что интересы дома отошли на второй план. Я была механическим исполнителем своих обязанностей. Тело моё было ещё здесь, но душа за тридевять земель…
Хотя переписка продолжалась, посылки и деньги я посылала значительно реже — пусть будет по-маминому. Но письма слала каждые две недели. Я была уже одной ногой там. А хлопоты длились более полугода. То, что в анкетах я писала, кто я и откуда родом — меня теперь не пугало. Я была американская гражданка и уже не боялась репрессий за свою работу рабыней на немецких заводах.
Я даже об этом и не думала. Какое может быть наказание дочери, приехавшей к своей матери? Я же не солдат, не политик и не журналист. Я простая русская женщина, любящая (теперь это уже ясно) свою родину, но живущая вдали от неё. За это не преследуют! Не сталинские времена.
В бестолковости моих переживаний, волнений и беспокойств пришёл долгожданный день моего отъезда, день оставления моего дорогого Джона и моих милых детей для того, чтобы лететь в далекую Россию.
Батюшка отслужил напутственный молебен, на котором были все мои, включая родителей мужа. Многие прихожане остались в воскресенье после службы, чтобы пожелать мне счастливого пути и такого же возвращения.
И вот теперь моё сердце заныло и заплакало невиданными слезами по-настоящему: ведь я покидала свою семью! Семью, около которой была всегда такой спокойной, радостной, уверенной.
А теперь мне предстоял путь в неизвестность.

И когда, уже на аэродроме, я должна была оторваться от мужа и плачущих ребят, я увидела у этого крепкого человека, закаленного солдата, практичного американца слезы. Он молчал, но за него говорили эти капельки, текущие по бритым щекам…
— Джон, — кричала я, не обращая внимания на удивленную публику — я боюсь, не отпускай меня! Удержи меня!
А он молчал и, обнимая, похлопывал по плечам.
— Так нужно, — вымолвил он. — С Богом!
И, покрыв тысячами поцелуев лица мужа и рыдающих детей, я бросилась к самолету. Заботливые стюардессы дали мне какие-то таблетки, попутно объясняя обеспокоенным пассажирам, что эта обливающаяся слезами женщина едет повидать свою мать.
— Так почему же такая истерия?
— Она едет в Россию.
Люди понимающе закивали головами.
К чему долго говорить? Где-то я пересаживалась, не-то в Лондоне, не-то в Финляндии, попала оттуда в Москву, где мой багаж был тщательно проверен, часть денег мне обменяли на рубли и выдали специальный лист, куда любой банк вписывал те рубли, которые я получала в обмен на мои доллары. Меня предупредили, что если я буду менять свои деньги «частным образом», то буду подвергнута наказанию так что, мол, лучше и не пробовать. Потом только я узнала, что спекулянты за наш доллар дают в три раза больше против государственного курса. Все делалось мною как в тумане. Я была безразлична и инертна. Скорей бы, уж!..

В Киеве, когда я ехала с аэродрома на вокзал, я спросила по-русски шофера такси:
— Не знаете ли, в котором часу поезд на Глухов?
Он вытаращил глаза на богатую иностранку (вид-то мой), так хорошо говорящую по-русски и ответил, что не знает, но если поезд будет через несколько часов, то он может купить мне билет и подвезет меня в ближайшую гостиницу, где я отдохну. А к назначенному часу он заедет за мной. Я согласилась. Узнав, что я из Америки, он осторожно спросил:
— Ну, как вам живется?
— О! Мы жаловаться не можем.
— Мы тоже не можем, — криво усмехнулся шофер.
Потом только я поняла соль его ответа.
Подъехав к вокзалу, я хотела выйти, но шофер сказал:
— Обождите, может быть нет смысла. Я сбегаю.
И побежал внутрь. Пока он справлялся, я жадно смотрела на окружающий меня мир.
Слева достраивалось крыло вокзала, и женщины таскали на носилках кирпич. Конечно, это было нелегко, но они носили, да ещё смеялись. Привычка, что ли? Разве эта работа для женщины?
Вокзальная площадь показалась мне грязноватой. Народ выглядел усталым. Мои наблюдения прервал блюститель порядка. Он сказал:
— Тут стоять нельзя. Где водитель машины? Что он не знает, что ли?
Я ответила:
— Я не знаю ваших порядков, а шофер побежал узнать насчет билета на…
Милиционер внимательно рассматривал меня.
— Из-за границы?
— Да, из Америки.
— И так здорово говорите по-русски?
— Я русская.
— Русская? Вот это номер, чтоб я помер!
В это время, запыхавшись прибежал мой шофер. Милиционер сказал ему:
— Ну, если б не твоя пассажирка, натёр бы я тебе морду!
И мы спешно отъехали на стоянку для машин.
— Так вот, какие дела — докладывал мне мой опекун, — поезд будет только завтра утром. Будет толпа и надо стоять в очереди. Выбирайте: или мы сейчас дадим «мазу» носильщику, и он всё сделает, а утром нас встретит и заберёт ваши вещи. Или же…
— «Мажьте», но, чтобы не было никаких задержек.
— Я так и думал. Давайте мне на всякий случай десятку, а будет сдача — принесу.
Я дала ему бумажку из денег, обменянных на московском аэродроме. Он побежал опять и вернулся через полчаса ликующим.
— Вот билет на харьковский поезд, это плацкарт. Завтра в 8.15 утра отходит. Я заеду за вами в отель в семь.
— А что же я буду делать на вокзале целый час?
— Всегда так надо, мало ли, что может случиться. Скучать не будете.
Он дал мне сдачу, которую я, не считая, положила в сумку.
— А теперь в отель. Это тут же за углом.
Через пять минут я была у отеля.
— Я узнаю, есть ли номера — побежал он. Я просто радовалась его заботливости обо мне. Он быстро вернулся и, улыбаясь, сказал:
— Вообще нет, а когда узнали, что иностранка, хотели посылать вас в город, в отель «Интурист». Они даже обязаны так делать, но я сказал, что у вас билет на Глухов, и что рано утром вы уезжаете — номер и нашёлся. Если бы какой командировочный сунулся, так и разговаривать бы не стали. Сразу бы отшили.
— Почему?
— Директива. Вы же «валюта»!
— Кто? Я!?
— Ну, доллары, — ценный гость, — и он с помощью засаленного швейцара начал таскать мои чемоданы в вестибюль, где было грязно, неуютно и стоял довольно затхлый запах.
— А лучшего отеля нет?
— Хорошие гостиницы в центре города. Там всё есть, но в три раза дороже.
— Да, ладно уж. Всё равно.
Мы потащили по лестнице на второй этаж мои вещи. Я щедро расплатилась с таксистом и даже пожала ему руку.
Когда он уходил, коридорный крикнул ему вслед:
— Ну, как, настукал шайбочек?
Я уже забыла этот язык, хотя слова и были знакомые.
И вот, я в номере отеля недалеко от вокзала. Первое, что я хотела сделать — это принять ванну, лечь отдохнуть, собраться с мыслями. Но ни ванной, ни уборной при комнате не было, только умывальник с холодной водой. Ковёр был затоптанный, потерявший цвет и рисунок. Кровать, однако, чистая. Я нажала кнопку звонка, так как телефона не было. Никто не приходил. Выглянув в коридор, я увидела какую-то женщину, мывшую тряпкой на палке пол, покрытый линолеумом.
— Простите, гражданка, как насчет ванны?
— Чего?
— Ванны. Я хочу выкупаться.
— Настя! — закричала женщина. — Настя, тут тебя кличут.
— Сейчас я! — донёсся голос, и через несколько минут в дверь постучали. Вошла милая девушка, в переднике.
— Вы Настя?
Она кивнула.
— Я бы хотела принять ванну.
Девушка внимательно меня рассматривала, глядя на мой костюм и чемоданы. В глазах её было удивление, любопытство и пакость…
— Ванную? Выкупаться? Это можно, только не так скоро. Она в конце коридора (девушка сделала жест) и пока я её растоплю… Вообще-то у нас пар от ТЭЦ…
— От кого?
— ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль. Но сейчас у нас ремонт, и у нас теперь стоит газовая колонка. Пока нагреется час пройдет, не меньше.
— Одна ванна на весь этаж?
— Да, у нас редко, кто пользуется. Недешёвое удовольствие.
— А она чистая?
— Отчего ж ей быть грязной, если мало кто пользуется. Да я уж для вас вымою её на «отлично», с дезинфекцией. Вы что, не наша?
— Нет, ваша. Я — русская.
— Русская-то, я вижу, а вот всё другое уже не наше, не советское.
— Да, из Америки.
— Из Америки?! О, Господи!
Она не скрывала восторга.
— Так я побежала. Я уж постараюсь для вас — во-как!
Конец II части.
Провинциальная Украина, СССР, 1950-е.
Настя сдержала слово. Когда она меня вела в ванную, то просила запереть двери номера и взять ключ с собой.
— Чтобы ненароком кто чего не спёр.
— А разве может быть и это?
— Кто его знает! Уж очень много у вас соблазну. А народ-то тут всякий околачивается. Жулябия тоже.
Она предложила мне помочь помыться.
— Оно и лучше, когда я буду с вами, никто не полезет. А то жилец по чаду чувствует, что бак топится, захочет тоже на шармака ополоснуться.
Я согласилась. Когда она меня мыла, поливая водой из ведерка, то буквально забрасывала вопросами, всё время оглядываясь на запертую на крючок дверь.
— Обратно кто-нибудь подслушивает. Тогда мне нагорит, за якшание с такими…
При моих откровенных ответах она только стонала от удивления и зависти.
— Господи, и это так вы живёте при капитализме! Нам же совсем другое говорят и пишут. Только вы, миленькая, с другими-то не очень душу открывайте: и им, и вам плохо будет. Вы уж поверьте мне, я знаю!
Когда, вытерев и укутав в халат, она сопровождала меня в комнату, в коридоре раздался злой голос.
— Настя, где ты пропадала, тщедушная твоя душа!
— Не пропала вовсе. Ответственный товарищ купался!
Войдя в комнату, она всплеснула руками:
— А вещички ж у вас! Мне бы за такую блузочку пришлось целый месяц вкалывать, да и то не заработала бы. А рубашка! А лифчик! А трусики! Это ж, как в сказке!
Видно было, что она еще что-то хотела сказать, но не решалась. Кроме денег я дала девушке кусок душистого «Айвори».
— A за купанье с вас обратно возьмут, когда съезжать будете.
Наста ушла, я легла и заснула. Меня разбудил стук.
— Войдите.
В комнату вошёл мужчина в штатском.
— Извиняюсь за беспокойство. Вы из-за границы? Можно ваши бумаги? — Я предъявила. Он внимательно их рассматривал и хмыкал.
— В Глухов? Хм… Да, есть специальное разрешение. Чудеса! — бормотал он.
— Что-нибудь неправильно?
— Да, нет всё как бы точка в точку, дочка в бочку, мать в огурец, а отец молодец, — сострил гость. Обычно в провинцию, да еще в глухую, гости из-за границы не ездят. Живут в ближайшем городе, в Киеве, скажем, а родные к ним едут для встречи. Так лучше для всех. А у вас же выхлопотано в Глухов. Редкий случай. Ну, ничего, там на месте тоже проверят, что и как. Только советую: не отклоняйтесь от маршрута — сугубые последствия!
— Да, мне кроме Глухова ничего и не надо.
— Вот-вот, это я и говорю. Пока, всего. — И ушел.
Я легла опять и тут почувствовала, что голодна. На улице вечерело. Я спустилась вниз. За конторкой стоял дежурный.
— Скажите, пожалуйста, где у вас ресторан?
— У нас ресторан? Да, у нас никогда его и не было. А что вы хотите?
— Ну, если не ресторан, то где-же поесть?
— Ага! У нас, мадам, только очень шикарные гостиницы имеют свои рестораны, а в этом районе лучше всего вопрос питания поставлен на вокзале, рукой подать.
Но мне не хотелось выходить на незнакомые улицы и идти в толпу. Слишком уж откровенно меня рассматривают. И всё это делал мой хороший костюм и туфли. Был случай, я уже не помню где, когда я с перекинутым через руку пальто оказалась перед какой-то женщиной, как она сразу же:
— Гражданочка, пальтецо продаёте? Дам хорошие деньги.
Я спросила конторщика:
— А нельзя ли кого-нибудь послать, чтобы принесли? Я заплачу.
— Хм, это проблемка — сказал он. — Послать-то некого. Вечерняя смена — я, да дежурная коридорная, а она одна на все три этажа.
— Неужели невозможно?
— Почему невозможно? У нас нет ничего невозможного. Трудности бывают, но это трудности роста. Одним словом, я сбегаю, принесу чего-нибудь холодного, хотите?
— Да. — Я дала ему три рубля.
— Чудненько. А вы тут постойте, пока я смотаюсь и, чтоб никто за конторку не заходил. Тут документы, отчетность. Ладно?
И он побежал. Вернулся минут через десять, принес чайной колбасы, кусок сыру, французскую булку и бутылку кефира.
Я поблагодарила и ушла.
Радостно ухмыляясь, он крикнул вслед:
— Если, что вам надо — кликните, я мигом!
И вот, сидя в номере, при довольно тусклой лампочке, я за небольшим столиком поужинала так, как уже давно не ела. И обстановка, и всё было ново и необыкновенно. Поев, вымыла руки, почистила зубы, легла, но спать мне не хотелось. Скорее бы ночь и скорее бы поезд! Настя обещала, хотя у неё завтра выходной день, специально прийти, чтобы разбудить и усадить меня в машину.
Перед отъездом муж купил мне дамские часики с будильником внутри. Не громкий, но настойчивый и долгий «звоночек из Америки», как он выразился, надевая их мне на руку.
Я приняла таблетку и погрузилась в глубокий сон. Проснулась от настойчивого стука.
— Кто там? — спросила я по-английски.
— Я извиняюсь, вам счет.
Я посмотрела на часы, было без четверти девять. Открыла дверь.
— А разве нельзя утром?
— Извиняюсь, конечно, но утром никого из служащих ещё не будет, а надо выписать все оправдательные документы. Учёт – это, знаете, социализм, а вы будете спешить.
Я взяла счёт, хотя он и не был высоким, но при тех «удобствах», которыми я располагала, получилось вдвое против расценок у нас дома. Посетитель долго скрипел пером, макая его в принесенную с собой чернильницу, потому что он забыл дописать плату за ванну. Счёт был в трёх экземплярах: один мне, один отелю и один, как он пояснил, для передачи в гостиничный трест.
Получив деньги, конторщик ушёл, жадно глядя на разбросанные на стульях и диване части моего туалета.
— Заграничное, ничего не попишешь! — пояснил он свои взгляды.
Закрыв двери, я улеглась, но сон уже не шёл. Ведь ещё сутки — и я буду с мамой и Володей сидеть, разговаривать, слушать и спрашивать… Как это будет, в каком это виде произойдёт, я не хотела ни думать, ни воображать. Ясно одно — это будет!
Может быть, живы соседи, которые знали меня девчонкой, может быть, живы подруги (но я их не помню), с которыми росла и бегала босиком купаться. Вспомнился кинотеатр имени Карла Маркса, базарная площадь, сады и парки. Город Глухов очень зелёный…
Ещё ночь, полдня и я обниму, крепко обниму моих близких!
То, что где-то была моя Америка, с мужем и детьми, сознавалось мною, но как-то туманно, будто я забыла; всё было вытеснено из памяти, и, как ни странно, я о них не вспомнила. Как это могло быть так? Все мысли, все желания моего сердца, вся моя душа была полна предстоящим свиданием… Мама! Господи, кто это придумал такое святое слово?
Мама…Мамочка… Мамуся… Так с этим именем на губах я уснула.
А очнулась от тонюсенького звоночка, настойчиво сверлившего мне ухо. Ничего не понимая, я смотрела на незнакомую обстановку, с пыльными портьерами на тусклых окнах, услышала скрип пружин матраца, на котором крепко проспала ночь и вскочила. Скоро буду в пути!
Быстренько умывшись и причесавшись, я взглянула в окно. Внизу, у входа в отель стояли мои новые друзья: шофер и Настя оживленно разговаривая.
Вдруг Настя сорвалась с места и опрометью бросилась к дверям отеля. Ко мне, наверное, будить. И правда, раздался стук, я сразу же отворила.
— Чудеса! — воскликнула девушка. — Вы уже встали! Вот здорово!
— Выспалась, рано легла.
— Гражданочка… — не зная, как начать, вся покраснев, промолвила Настя. А что я хочу вас спросить? Сделайте, ведь это же вы можете, вам легко.
— Да, что такое, Настя? Чего вы волнуетесь?
— Очень даже прошу вас… Из кармана ее старенькой жакетки показалась огрубевшая молодая рука, сжимавшая мятые, потные кредитки — продайте мне одну блузочку! Вы ж себе достанете, раз плюнуть. А мне и в жизни такое не снилось. Я заплачу, сколько захочете!..
Я посмотрела на смущенное девичье лицо, розовое от стыда и от боязни отказа, в эти молящие глаза и подумала:
— Блузка – тряпка, которую через несколько стирок мы отдаём в «гудвилл», а здесь за неё человек унижается, просит… Я ничего не сказала, повернулась к ещё не запертому чемодану, наугад вытянула оттуда кофточку и красивый, шёлковый головной платок и протянула девушке.
— Нате, Настя, носите на здоровье.
Девушка расширенными от восхищения глазами смотрела на протянутые ей вещи, потом схватила их и быстрым движением стала запихивать за борт жакетки.
— Не дай Бог, чтобы кто увидал! Пропаду ни за понюх.
Она бросила на стол деньги и как бы боясь, что я раздумаю, кинулась к дверям. Она мигом сбежала вниз. Я попыталась открыть окно, увидала девушку, стремительно бегущую мимо шофёра, и услышала его слова:
— Тю, сумасшедшая!
— Верните её! — крикнула я вниз. — Верните!
— А что? Спёрла что?
— Да, нет! — с досадой ответила я и закрыла окно.
Она даже забыла, что обещала мне помочь сесть в поезд.
Это были мои первые впечатления на родной земле.
Ровно в семь пришли вчерашний конторщик и шофёр, они взяли чемоданы, снесли вниз, уложили в багажник, и я поехала.
Оказывается, я ошиблась: подъехав к вокзалу, я увидела мою Настю, ожидавшую нашего приезда. Едва я вышла из машины, как она побежала к нам:
— Не скажите ему ничего!
Подошёл носильщик, взял два чемодана, а два взяла Настя.
— А ты чего суёшься не в свое дело?
— Тебя не спросила. Провожаю. Нельзя скажешь?
Я расплатилась с шофёром.
— Счастливой дороги! Ни пуха, ни пера! — крикнул он, отъезжая.
— Настя, вам же тяжело?
— Да я такие чемоданы сто километров несла б!
Мы вошли в зал ожидания. Усадив нас на скамью, носильщик сказал:
— Сидите тут, но будьте начеку. Будет наплыв народу, толкотня. Смотри за чемоданами. Охотников до черта. А когда начнут выпускать на перрон, я вас выведу через другие двери, чтоб не затёрли. Всё будет первоклассно. Адье!
И он побежал по своим делам.
Поставив по два чемодана, с двух сторон около себя на скамью, Настя, как наседка крылья, положила на них руки.
— А, может, сдать в багаж?
— А мы носильщика спросим. Он лучше в курсе дела.
Минут через пятнадцать он подбежал к нам.
— Ну, как, всё в порядке?
А я спросила его о багаже.
— Нет смысла. Поезд скорый, на Харьков. Вам в Ворожбе пересадка, а он там не будет долго стоять. А так, сразу вылезете, и вещи вам проводник подаст.
— Пересадка?
— А как же? Спокон веков.
И побежал опять.
Я видела, как публика, и сидевшая недалеко, и проходившая мимо, с любопытством смотрела на меня и мои чемоданы. Да и большая разница в одежде. Я уже жалела, что не одета проще. Настя сидела, мечтательно глядя вперед.
— Настя, о чем вы думаете?
— А вот, как в воскресенье надену вашу блузку, да на голову платок и пойду со своим Федей на прогулку. Ах, как будет хорошо! Красивая стану!
— Да, вы и так красивая.
— Да — грустно сказала она, — с такой работой живо высохнешь.
Я раскрыла сумку, чтобы достать и вернуть ей деньги.
Она сразу же угадала мое намерение и испуганно прошептала
— Я ж вас прошу, очень вас прошу, не обижайте меня! Дайте мне тоже что-то купить, чтоб я знала, что я не веселая нищая. А то встану, все брошу и уйду. Так и останетесь одна, накажи меня Бог!
И столько в этом голосе было и мольбы, и угрозы, что я захлопнула свою сумку, которую муж подарил мне на годовщину свадьбы. Я ее очень любила.
Подбежал носильщик, схватил два чемодана и зло спросил Настю:
— А ты знов пойдешь?
— А як же! До самого вагону! — ответила Настя.
И мы пошли по каким-то коридорам. У невзрачной двери, где стоял железнодорожник, носильщик бросил:
— Свои.
И нас пропустил, не проверяя билетов.
Вот мы и на перроне. Тут, кроме служебного персонала и милиции никого нет. Наш спутник уверенно ведет нас к третьему пути, к стоящему под парами, но пустому поезду. У моего вагона стоит женщина-проводник.
— Вот, — сказал носильщик, — бери, дорогой товарищ, ценный груз и не забудь высадить в Ворожбе. Они,— он указал на меня, — едут в Глухов.
— А она? — проводница указала на Настю.
— Пришей кобыле хвост.
— Ну, Настя, спасибо за помощь и доброту, — обратилась я к девушке. Дайте вас я поцелую.
— Ах, как вы хорошо пахнете!
— Если буду обратно так же ехать, то остановлюсь в вашей гостинице, Настя.
— А когда-ж это будет?
— Недели, думаю, через три.
— Садитесь, садитесь! Сейчас народ пускать будут.
Я пошла к вагону.
— Вы от чемоданов не отходите, — крикнула Настя, — сопрут в два счета!
Проводница усадила меня в купе первого класса.
— Вот это ваше место, а потом будут еще три человека.
Я смотрела в окно. Две вокзальные двери открылись, и народ хлынул, спеша и толкаясь, к поезду. Да, это правда, я бы в таком потоке и на ногах не устояла.
Я спросила соседку по купе долго ли мы будем ехать до Ворожбы.
— Может три, может четыре часа, как выйдет. А ядумала, что вы не русская!..
— Да, я иностранка, только умею говорить по-русски.

И в купе наступило какое-то странное молчание. Одна женщина взялась за вязание, другая пытливо рассматривала мой туалет, а мужчина погрузился в чтение газеты. Я была только рада этому.
Как видно у моих спутников не было желания заводить со мной знакомство. И слава Богу. Закрыв глаза, я стала дремать. Женщины начали шептаться, а сидевший напротив, изредка поглядывал на меня… Вот, я в родной стране, а как чужая, а там, за океаном я была в чужой стране как своя! Правда, обидно?
Так, с закрытыми глазами, я просидела до самой Ворожбы.
Проводница помогла мне высадиться и сказала подбежавшему носильщику:
— Этую гражданку усади на глуховскую ветку и проследи, чтобы все было в порядке. Человек из чужих краев и не знает, что и как.
Думая, что я не говорю по-русски, носильщик, нагрузившись моими чемоданами (два на ремень через плечо, а два в руки) и кивая головой, звал меня следовать за ним. Приведя в грязный и запущенный зал ожидания станции Ворожба, он усадил меня на скамью и указывая на стенные часы, поднял два пальца.
— Что, поезд будет через два часа? — спросила я.
— Ох ты, смех и грех! А я думал, что вы не можете по-нашему. Да, через два часа. Вы не беспокойтесь — я усажу, только уж за чемоданами приглядывайте — усохнуть могут.
И я села по Настиному образцу, растопырив руки и положив их на чемоданы. Эти два часа тянулись томительно и долго. Пойти в буфет волоча за собой чемоданы, я была не в силах, а оставить их? Рискованно. Теперь уже и в Америке не оставишь вещь без присмотра. А этого не было, когда я туда приехала.
Ко мне подошел суровый железнодорожный охранник в форме и спросил, куда я еду и имею ли билет. Я улыбнулась и сказала:
— Почему вы только меня спрашиваете, а больше никого?
Он улыбнулся.
— А потому, что вижу, что человек нездешний и может не знать порядков.
Я объяснила, он откозырял и ушел. От голода у меня разболелась голова, а, чтобы принять таблетку, нужен глоток воды, а чтобы достать воды, надо куда-то идти. Как все это глупо.
— Boт, уж сяду в поезд, тогда и приму.
Носильщик пришел и сказал, что все в порядке, можно «идти на посадку».
Идя за ним, я чувствовала, что здесь, на фоне серой толпы,я в элегантном костюме невольно привлекаю всеобщее внимание.
— Белая ворона, — подумала я.
Это уже не такие люди, как в Киеве — с портфелями или чемоданами. Все вагоны не плацкартные, места не нумерованные. Были люди с корзинами, мешками, бидонами. Были крестьяне, очень бедно одетые, какие-то испуганные, как будто они были последними людьми среди всех. Проводники на них покрикивали, они молча (не огрызаясь) делали, как было приказано. Воздух в вагоне начал быстро «сгущаться», но окон из-за сквозняков не открывали. Так в тесноте, духоте и неудобстве мы поехали. Просить проводницу, чтобы она принесла мне воды — думать было нечего, да ее и не было. Как видно, пассажиры на Глухов собирались с нескольких поездов, потому что с моего сошло их не так уж много, а в поезде было полно. Доехали, слава Богу. Зная, что это конечный пункт, я не торопилась выходить, да и не смогла бы тащить свой груз. Когда вагон наполовину опустел, появилась проводница.
— Не забоялись, что я не приду?
— Нет, я ждала.
— Ну, вот и добре.
Она взяла мои три чемодана (а четвертый, наиболее легкий несла я) и мы вышли на глуховскую привокзальную площадь.
«Принимай, родина, блудную дочь!»
— А кто же вас повезет? — спросила проводница, получая чаевые. Я пожала плечами.
— Тут такси или извозчиков нет?
— Нету. Тут все от случая: то случайная машина-грузовик, то служебная, а больше люди сами тащат. Городской автобус, так тот с бою берут. Я зайду к начальнику и поспрошу его.
И ушла.
Оглядываясь, я увидела небольшую толпу и услышала красивый баритон, с надрывом певший:
Проклятье тебе, Колыма,
Что названа нашей планетой.
Сойдешь поневоле с ума,
Возврата оттуда уж нету…
Там смерть подружилась с тайгой,
Набиты битком лазареты,
И может быть, этой весной,
Меня уж не будет на свете.
Умру, похоронят меня,
И гроба не станут мне делать,
Снегами засыплет пурга,
Покроет, как саваном белым.
Не плачьте ни мать, ни жена,
Ни вы, мои милые дети,
Знать, горькую чашу до дна
Досталось испить мне на свете.
В метелях бушует зима
И тают свечей мои силы.
Будь проклята ты, Колыма,
Свободе и счастью могила!
Голос певца широко разливался по площади, и мне как-то не верилось, что подобное можно услышать в таком людном месте. Он сидел у стены с гармонью в руках. Он был в вылинявшей военной гимнастерке. Ноги его ниже колен были отняты, а верхняя их часть была в крепких кожаных штанах. Сбоку стояла тележка, в которой он, по-видимому, ездил. Люди бросали в шапку инвалида всякую мелочь. Я положила рубль; все более чем удивленно посмотрели на меня и начали расходиться. Увидев такую щедрость, певец кинул мне вслед:
— Спасибо, краля, из другого края!
Тут подъехал расхлябанный грузовичок, и шофер крикнул:
— Эй, браток, поехали, что ли?
Инвалид положил свою гармонь в тележку и подталкивая ее, «пошел» к автомобилю. Вышедший шофер закинул тележку за борт машины, а сам подсадил певца, с одетой через плечо гармонью, к себе в кабину.
Когда машина тронулась, тот высунул голову из оконца и крикнул мне:
— Спасибо, до скорого!
Они уехали, а я все ждала. Наконец, ко мне подошел железнодорожник, посланный, наверное, проводницей.
— Вам в город? Было несколько машин, но они уже набрали пассажиров за «калым» и уехали. В городской вы бы не сели с таким багажом. Я вам колхозника подряжу. Поедете на телеге?
— Конечно, — обрадовалась я.
— Ну и хорошо. Сейчас сделаем.
Проходящие мимо люди с удивлением смотрели на знатное чучело, попавшее из другого царства в глухой Глухов… Вдали задребезжала телега, запряженная худой лошадью.
— Это вы, што-ли, гражданка, хочете в Глухов?
— Да, да! Подвезите меня, я заплачу.
— Это не без того, конешно. А куда вам там?
— Синявская 23.
— Пойдем, сидайте. — Он погрузил надоевшие мне до смерти чемоданы, усадил на солому, подстелив рядно, и мы затрусили по выбоинам и неровностям провинциальной мостовой. Лошадка плелась не спеша. Я сидела, свесив ноги и думала: «Вот бы увидели меня мой муж и дети в такой позе, на таком транспорте. Вот-то бы смеялись!..»

А мне не было смешно. Я смертельно устала, мне хотелось есть, болела голова. Мысль, что, может быть, через какой-нибудь час я поем и высплюсь, придавала мне бодрости. Высплюсь? После встречи с мамой? А разговоры, а слезы, а вопросы?! Сердце билось учащенно и тревожно. Мне казалось, что оно бьется в двери маминой комнаты, и она слышит и ждет меня. Вот мы уже в центре города. Мой возница спрашивает у людей, где Синявская улица, они ему показывали, а сами во все глаза смотрели на меня. И, наконец, нам сказали:
— А вот, две улицы, проедете поперек, и Синявская будет налево.
Как медленно тащится наша лошаденка! Вот еще две улицы — мои мысли бегут вперед меня — потом за угол, и налево наша Синявская, дом, калитка, двор, деревья, лопухи и родные моему сердцу запахи. Я их уже теперь начинаю чувствовать. Скорее бы, скорей. Я с жадностью смотрела на дома, людей, улицы, мостовую, тротуары. Все было старо, запущено, грязно и требовало ремонта. Даже люди, уставшие, без улыбок, с неизменными авоськами. Когда мы поравнялись с перекрестком, я увидела на доме табличку: «Синявская ул.», и совсем обомлела.
«Боже мой! Вот и скоро родной дом, и мама!»
Мы завернули за угол. У ворот дома стояла женщина.
— Скажите, здесь живет Александра Степановна Жукова? — спросила я, дрожа.
— Здесь, вот ихние окна — и она указала на окна полуподвала, стоявшие в уровень с выщербленным и разбитым тротуаром. — А вы кто сама будете?
— Я — дочка, приехала повидаться.
— Господи ж, Боже мой! — закричала женщина, — дочка из Америки!
Я отпустила моего возницу.
— А мама дома?
— Да нету ее. Она за рыбой стоит, а Володи-то тоже нет.
— А как же я войду к ним?
— А ключ всегда под мешком, что ноги вытирают. Идемте.
Мы потащили чемоданы. Из других домов смотрели растерянные лица, открывались окна, начался оживленный обмен мнениямив мой адрес. Во дворе мы спустились на четыре ступеньки вниз, и соседка, открыв двери, обитые клеенкой, ввела меня туда, где жили мои мать и брат.
— Если вы хотите, мы пойдем сейчас в очередь и найдем Степановну, — это недалеко. Вот радость-то будет ей!
Глянув на эту комнату, мне захотелось сесть на пол и заплакать громко, навзрыд. Я как-то сдержалась.
— Вы мне дайте воды, я таблетку приму.
— Ага, аспирин. Простыла? — и из ведра, стоявшего около большой печи, накрытого дощечкой, зачерпнула мне жестяной кружкой холодной воды. Вместе с таблеткой от головной боли я проглотила и одну пилюлю против нервов. Я уже чувствовала, что с каждым шагом меня ждут сюрпризы, которые окончатся истерикой.
Мы вышли, а там уже около домов стояли соседи с нетерпением обсуждая такое огромное событие в жизни их улицы, а может, и города…
— К Степановне-то дочка приехала.
— А мы уже знаем, уже видели!
— Идем, миленькая, тут совсем недалеко. Если помните, за два квартала отсюда колонка для воды стоит, еще спокон веку. Там теперь ларек поставили, и он торгует то тем, то другим. Вот, мать-то обрадуется.
Она говорила, рассказывала, спрашивала, я что-то отвечала, а мое сердце сжималось все больше и больше… Колонка для воды? Значит, как и тогда, воды нет — ее надо носить. Тяжелый, мрачный занавес поднимался над жизнью моих близких.
— Колонка-то это хорошо, конечно, но то, что ларек рядом— это плохо. Зимой воды понамерзнет, — тараторила соседка, — а народ к ларьку становится. Там скользко, люди падают, разбиваются. А почему поставили близко? Ларешнику удобно: то рыбу обмыть, то овощ побрызгать, то самому руки сполоснуть, а мы падаем. Так-то вот…
Она болтала без умолку, к счастью, ни о чем не спрашивая…
Я шла, чувствуя, что мои ноги становятся ватными, с трудом передвигаясь на высоких каблуках.
— Устали, милая? Уже не далеко.
Конец III части.
И вот, мы увидали вдали крышу зеленой будки, шумящую толпу и людей, несших оттуда, кто рыбу, завернутую в газету, а кто полные ведра воды, на коромысле, через плечо.
— Встречают с полными ведрами, значит удача, — пошутила спутница, — вот сейчас и мамочку найдем.
Я уже пожалела, что пошла. Нужно было остаться «дома» и обождать ее возвращения, а не бросаться к ней на людях. Ведь это же такое мое, интимное, дорогое, а я его вынесла на площадь. Нате, мол, люди добрые, смотрите на нашу встречу!
Но ходу назад не было. Соседка шарила глазами по очереди и вдруг сказала:
— А вот-де и Степановна наша стоит.
Мне показалось, что сердце мое сейчас выскочит и покатится по камням к маме. Дыхание остановилось, я не могла дальше идти. Как это ни странно, женщина поняла мое состояние.
— Я ее позову, а сама стану на ее место, не пропадать же рыбе…
— Нет, нет, — выдавила я еле слышно, — где же она, где?
— А вот в армейском стеганом ватнике, зябкая стала. С палкой, видите?
Да, я увидела ее, но не видела ее лица. Она стояла молча, опустив голову, с видом обреченной покорности, ожидая, когда придет ее черед получить долгожданную рыбу.
Мы подошли.
— Здравствуй, мама! — сказала я, казалось мне, что очень громко. Разговоры затихли, все повернули головы в мою сторону. Я тронула ее за плечо.
— Мама, мамочка, здравствуй, родная!
Тогда она услышала тоже. Палка и авоська выпали из ее рук.
— Валечка! — закричала она и бросилась мне на шею.
Мы плакали. Ах, как мы плакали! И целовали друг друга, не говоря ни слова.
А моя спутница рассказывала окружающим, в чем дело. Некоторые из женщин тожеутирали слезы. Наконец, одна сказала:
— Степановна, иди без очереди. У тебя ж такой праздник! Продавщица в грязном халате, разинув рот, смотрела на меня.
— Отпускай, отпускай, нечего пялиться! Видишь, дочка приехала повидать мать.
Получив товар, мы пошли домой. Молчаливая очередь долго смотрела нам вслед. Что думали в этот момент эти люди?
— Вот видишь, Валечка, то бы к вечеру домой, а то сразу пропустили, — сказала мать, — будем обедать.
Я обняла дорогие мне плечи, и мы побрели. Соседка шла поодаль.
О чем мы говорили — не помню. Когда мы подходили, то уже почти вся улица стояла у своих домов. На лицах было родное сочувствие и понимание, но все молчали, может быть, не желая нарушить торжественность момента.
Мы вошли в дом.
— Вот, сейчас разожгу керосинку и поставим рыбу жариться. Чем же тебя угостить?
— Я, мама, очень устала. Дайте мне хлеба с маслом, пока обед, а я полежу.
Говоря это, я оглядывала комнату. Я вспомнила, что когда-то она была кухней и в ней стирали белье и варили обеды. Большой котел, вмурованный в печь, оказался старым знакомым. Все так и было, как когда-то. Этот полуподвал был частью нашей квартиры. В этой стороне комнаты была повешена зеленая занавеска. Мать поймала мой взгляд.

— Там мой угол, там я сплю. Он теплее. А там Володя, — она указала на кровать в противоположном углу. Над ней висело несколько фотографий. В комнате стоял большой комод и гардероб, тоже знакомые мне, посреди — стол, накрытый клеенкой. Икона, которую я знала с детских лет, висела в правом углу, при входе.
— Масла нет, девочка. Я тебе повидлом намажу. Сама варила.
Я взяла в руки кусок вкуснейшего хлеба, намазанного яблочным повидлом и ела, смотря на мать.
— Мамуля, ты знаешь, в Америке все, кажется, есть, а вот запаха нашего в хлебе нет! И корочки такой румяной, хрустящей не бывает.
— Почему ж ты не написала, что едешь? Почему не дала знать?
— Боялась, мама. Я думала, что скажешь: не надо, не приезжай. А я не могла больше. А где Володя? Что он делает, где работает?
У меня язык не поворачивался спросить, как можно жить в такой полутемной яме, с сырыми углами, в которой только летом было по-настоящему и светло, и тепло. Масло шипело на сковороде и наполняло чадом низкое помещение. У меня поднималось чувство тошноты. Я пошла к выходу. Мать сказала вслед:
— В конце двора, Валечка, у забора, не забыла?
Воздух, был теплый и свежий. В соседних дворах были видны фруктовые деревья с плодами, но их было уже не так много, как в мои времена. В нашем дворе деревья сохранились только там, в глубине двора, среди лопухов, у которых играли ребятишки. Они с удивлением уставились на меня.
«Да, надо переодеться подумала я: «хватит людям мозолить глаза».
Стол был уже накрыт белой скатертью, тоже родной и знакомой. Даже рисунок на тарелках был еще «тех времен».
— Мама, а тебе этот чад — ничего?
— Какой, детка?
— Да, вот, от рыбы и масла.
— О, Господи! Дал бы Бог так каждый день!
Мы сели. Мать истово перекрестившись на икону, положила мне кусок рыбы и жаренной картошки. Мне стало стыдно: я поняла, что не смогу съесть ни кусочка рыбы, настолько противен мне был ее запах. Я ела только картофель, да и то с трудом.
Мама забеспокоилась.
— Может, нездоровится? Может, заболела?
— Нет, нет, устала только. Я лучше прилягу, а потом откроем чемоданы. Она отвела меня на свою кровать. Я легла и подумала:
— А где-же я буду ночью спать? Тут же нет ни места, ни кровати.
И задремала. Сквозь дрему слышала, как кто-то входил, шептался, хлопал дверью. Спокойная и счастливая, я уснула… Я дома!
Проснувшись, никак не могла сообразить где я? В комнате было тихо и сумрачно. Я выглянула из-за занавески: мать стояла на коленях, перед иконой. Она молилась. Моя добрая, ненаглядная, мама! Не желая ее тревожить, я лежала и думала.
«Так вот о чем она не хотела и не могла писать мне. Я хвасталась своим комфортом, своею сытой жизнью, мужем, детьми, удобствами, а в другом конце земного шара старая мамочка стояла в очередях, носила воду на коромысле и варила обед на керосинке. Боже мой, а где же они моются, стирают?»
Я услыхала, как мама встала и пошла ко мне. Я закрыла глаза.
— Детонька моя дорогая, — сказала она чуть слышно, но я услышала, вскочила, обняла ее, и мы опять начали говорить, перебивая друг друга. Мне казалось, что я никогда не нагляжусь и не наговорюсь с этим бесконечно дорогим для меня человеком.
Мы сидели за столом, пили чай с клубничным вареньем. Было очень вкусно! Поздним вечером я услышала странный шум колес, а затем что-то тяжелое мягко сползло, или вернее скатилось к нашим дверям.
— Вот и Володя приехал, — сказала мама, как бы отвечая на мой удивленный взгляд.
Дверь распахнулась, и я увидела того самого инвалида, которому сегодня бросила рубль в фуражку… Мой брат! Безногий калека! А мама молчала, не говорила, не писала мне.
— Володенька, — сказала она, — вот наша Валя приехала повидаться. Не узнаешь?
Я бросилась к нему, опустилась на колени, обняла и заплакала. Резкий запах водки и лука обдал меня.
— Ишь, ты, какая фасонистая! — Он обнял меня тоже.
— А я вот на твой карбованец разгулялся и выпил с бражкой. Я уже и не помню, какая ты была…

Шаркая по полу обшитым кожей задом, он подобрался к столу и ловко орудуя сильными руками, взобрался на стул.
— Маманя, есть подшамать?
Мама торопливо подала еще теплую рыбу, картофель и чай. Жадно чавкая, он ел, разглядывая меня, а я смотрела на этого здорового, крепкого мужчину и сердце мое обдавалось кровью.
— Что, жалко? — спросил он с полным ртом. — Если уж я сам не жалею, так и тебе не стоит. Видишь: сыт, пьян и нос в табаке, — он достал из кармана папиросы и закурил.
— Спасибо тебе за посылки. Здорово выручают нас. Я их загоняю. Вот колясочку себе новую справил, гармонь купил, новенькую трехрядку. Керосин есть в запасе. Женщина нам воду носит. Дрова будут на зиму. Картошки купим. Одним словом, не будь тебя — пропали бы.
Мысли вихрем неслись у меня в голове. «Так вот, почему мама никогда не писала мне о нем. Вот почему она не может, переехать ко мне. Вот почему она живет в подвале: Володе легче, всего четыре ступеньки. Господи, Боже мой! Так живут моя мать и брат, а как живу я? Два мира — два полюса.»
— Володя, — сказала мама, — где мы положим Валю спать? Я пойду к соседке.
— Ну — да, так лучше. Если б я знал раньше, остался бы ночевать у братвы, а ехать обратно для меня путь далекий. По дороге засну.
Я чувствовала себя убийственно. Я думала, что у нас с мамой будут две кровати рядом и я смогу слышать ее спокойное дыхание, укрыть, поцеловать, посмотреть на нее спящую, мою дорогую, разговаривать, держа ее худую, жилистую руку, а так? Не могу же я идти в чужой дом, чтобы посидеть возле нее, пока она заснет.
А вот это — мой брат? Какой он был красивый, стройный, веселый, жизнерадостный двадцать два года назад! А сейчас? Обрюзг, нездоровая полнота и сильные руки, которые выполняют роль ног. Если он не работает, то чем же они живут? Моими посылками? А до них? Я сгорала от стыда за свою жизнь в Америке, глядя на этих двух родных мне людей, стоящих на грани нищеты…
Теперь говорил только Володя. Он хвастался собой, своей смелостью, умением жить и спекулировать. А потом вдруг сказал:
— Нас гармонь кормит. Пою и на улицах, ты видела, и по ресторанам, и в дома зовут. Это самое хлебное. Там иногда пою такое, что нигде нельзя. Хочешь спою?
— Нет, нет! — испугалась мама, — уже поздно сынок, люди спят.
— Ну, ладно, пошел и я спать, — он соскочил с обезьяньей ловкостью на пол и, быстро перебирая руками, «пошел» к своей кровати.
— До завтра, Валя, а то притомился я сегодня. День был тяжелый. Маманя, помогите раздеться.
Уже через несколько минут он храпел.
— Ну, Валенька, пойду и я, — грустно сказала мама.
— Мамонька, — я обняла ее, — не уходи. Давай ляжем вместе. Мы уместимся. Нам будет хорошо. Не могу я спать, зная, что ты из-за меня где-то у чужих людей. А завтра купим кровать, и я буду рядом с тобой все ночи, а? Моя дорогая!
Она поцеловала меня в глаза, как это она делала давным-давно, и, ничего не отвечая, начала стелить.
— Если тебе ночью надо будет выйти, вот валенки, — она достала из-под кровати огромные валенки, обшитые кожей, а снизу — кусками шин от автомобиля, чтобы не промокали и не изнашивались. — Ох, как они меня выручают зимой! Это Володя купил, вечные!
Конец IV части.
Так началась моя новая жизнь на новом месте. Много страшного и тяжелого я узнала за эти дни. Во-первых, как стал инвалидом брат? Оказывается, будучи в плену у немцев, он пытался бежать, неудачно спрыгнул с поезда и попал под колеса. Его искалечило так, что в госпитале немцы отрезали ему обе ноги ниже колен, а когда отступали, то оставили, и он попал в плен к своим. Как он мог доказать, что потерял ноги при попытке к бегству? Никак. Его допрашивали, не верили и все время держали под подозрением. Кто мог подтвердить правоту его слов? А вот подозревать — можно было. С пятном, измученный, истерзанный, он вернулся домой. Любовь мамы, ее уход заботливость, как-то смягчили его озлобленное сердце. Его инвалидность была признана, и ему дали пенсию в 32 рубля. И умереть нельзя, и жить невозможно. Это знали все. И он стал побираться, сидел на углах улиц, военной гимнастерке, с фуражкой на коленях и молчал, глядя в землю. Это действовало подчас сильнее слов и ему подавали — не только деньги, но и продукты. В Киеве таких было много, и они, военные инвалиды, держались крепко друг за друга.
https://www.youtube.com/watch?v=kFCwJ6Indq4
Видео Кременчуга 1960-х. Это не Глухов, но тоже провинциальный украинский город сравнимый с Глуховым.
Их даже милиция не трогала. Они вступали в драку с ней, дрались костылями, камнями и бутылками. Потом их потихоньку стали рассылать по провинциальным городам, давая легкую работу, чтобы они в столицах не мозолили глаза начальству и туристам.
Узнав, что у Владимира есть мать, его привезли сюда, со строгим наказом не выезжать за пределы Глухова, под угрозой высылки в далекие края. С огромным трудом купил он себе старую гармонь и сколотил тележку, которая значительно облегчала ему передвижение по улицам. Он даже умудрялся привозить в ней воду из колонки, держа ведро обрубками ног. Так и жили. Семью заводить не хотел.
— Какой я муж? Какой отец? Какой я кормилец? Ни два, ни полтора, — сказал он как-то с горечью.
Володя пьянствовал с такими же, как и он, людьми, выбитыми из колеи, водился со всякими женщинами, но мать любил и заботился о ней.
— Если б не она, я давно бы повесился. Мы оба нужны друг другу.
Осенью он ползал по дворам, рубил и пилил дрова. Не отказывался ни от какой работы. Государство кроме пенсии ничего ему предложить не могло, а может, и не хотело, ибо он был невоздержан на язык, и крыл коммунистов, не боясь никого и ничего.
На третий день, в десятом часу утра (Володя уже укатил на заработки), когда мы с мамой собирались на базар, в дверь без стука вошел человек с портфелем и попросил меня предъявить документы. Долго копался, что-то записывал, отмечал, сравнивал, сверял со своими бумагами и, наконец, сказал:
— Гражданка Жукова, выйдите на минутку.
Мама вышла.
— Рекомендую вам не распространяться о своей жизни за границей и поменьше бывать на людях. Никому от этого пользы не будет, а вред возможен, — добавил он, уходя.
Я обещала.
Мама вернулась и ни слова меня не спросила о нем. Только обронила:
— Когда я начала получать от тебя письма и переводы, навещали меня такие…
Я уже выгляжу совсем по-местному. И платье простое, и туфли, и платок. Хоть сейчас в очередь. Я вполне довольна. Глуховский базар меня очень обрадовал: было все и я могла купить, что хотела. Это не было доступно другим, я это видела. Кило говядины стоило два с полтиной, а курятина, у нас такая дешевая, тут доходила до трех рублей. Конечно, я покупала все, и мы вкусно и сытно ели. Мама варила мне мой любимый зеленый борщ, я ела ряженку. Молоко я приносила в крынке, такое вкусное…Володя теперь всегда являлся к обеду и никуда больше не уходил, наслаждаясь сытной и вкусной едой. Ах, как вам было хорошо! Но без меня и без моих посылок — как они жили? Ведь мама получала 28 рублей в месяц. Значит, им надо было жить на шестьдесят рублей, вдвоем. Они имели на зиму бочонок квашеной капусты, яблок и соленых огурцов. Это делали все, кто только имел, где их держать, но в кладовочке у входа в мамину «квартиру» было прохладно даже летом. В основном их еда была: суп или борщ с салом, картофель и вкусный хлеб. Мясо и масло были очень редкими гостями их стола.

Когда я их нашла и стала посылать посылки и деньги, то это оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, огромная помощь, а с другой — за продажу вещей Володю два раза арестовывали и предупредили маму, что за спекуляцию заграничными товарами его могут посадить.
— Ну как я могла, — говорила мама — это все тебе написать? Я просила, но ты не понимала моих намеков, думая, что я стесняюсь, а я ведь не могла сказать откровенно. Ведь даже твои письма, мне не приносили домой, а по повестке, я шла на почту, где в специальном окошечке, предъявляя паспорт и расписавшись, я могла получить заветный конверт, который был уже раньше вскрыт. Один раз меня даже вызывали в какую-то комнату, и какой-то начальник сказал мне по-дружески:
«Напишите вашей дочери, чтобы она не очень-то хвалилась своей жизнью. Могут запретить вам переписку и все».
— А как же я напишу, когда ты не понимаешь, что хочу сказать? А когда ты, доченька, присылала сертификат на товары, а в Глухове таких магазинов, вроде Торгсина, нет и мне надо было ехать в Киев, а там в специальном магазине мне говорили, что, допустим, валенок нет, полушубка для Володи нет. Теплый, оренбургский платок себе хотела, тоже не бывает. «А вот,— говорит со злобой продавщица, —возьмите каракулевый жакет, или котиковую шапочку, или фетровые ботинки». А на что они мне, старухе-то? Через неделю едешь опять. Хочется ж взять то, что нужно, а не то, что Володя опять понесет на «толчок», на продажу. Одно мучение, а не могу ж я тебе все это написать? А он с твоих посылок еще больше пить начал, лишние ж деньги завелись. Вот ему и раздолье — продавать-то он ходит. Половину прогуляет со своей шпаной… А еще с каждой посылки всем надо дать: почтальону за повестку, на почте за то, что сразу выдали, а не сослались на то, что «не нашли».
— А соседки! Их ведь тоже озлобляет чужая удача — сама знаешь. Особенно наш народ, у которого всего не хватает. На рынке есть — пожалуйста. А подступу нету, милая девочка. Пригласишь зайти чайку попить, а они норовят что-либо купить из посылки, а потом тебя же обругают за спиной, содрала, мол. А мне бы век не продавать и не покупать, понятно тебе деточка? До твоих посылок спокойнее жилось. Была я, как все!
На третий день я не вытерпела и спросила маму:
— А как бы мне помыться?
— О, Господи, деточка, я и забыла, ты ж с дороги. В баньку пойдем, милая, это у нас одно удовольствие и есть. Зимой, правда, хуже. Во-первых, холодно и боязно простудиться, да и перебои с водой бывают. Ну, тогда уж берем бадью, помнишь? Нагреем воды, вот в этом котле и купаемся. Еще и соседки напрашиваются, воды наносят, мыла принесут и моемся за милую душу. Я Володю купаю, он очень любит. Вот мы и пойдем завтра, хорошо?
— Конечно, хорошо. Так на людях и будем мыться?
— А, как же иначе? Баня ж!
Странно мне все—пошли, а мама еще два узла приготовила.
— Что это?
— А бельишко. Мы там и постираем, когда народу меньше. Многие так делают, а уж дома посушим. Вода-то горячая и даровая.
Мы пошли часа за два до закрытия, с тем расчетом, чтобы не было толкотни и удобнее было бы заняться стиркой. Давно уж я не раздевалась при чужих людях. И странно, и неудобно. Но теперь-то уж никак не походила на интуристку — была как все. Когда нам выдали номерки от наших шкафчиков, я невольно вспомнила Зощенко. В купальном отделении было душно и шумно, но мама была в восторге. В пару слышались веселые голоса, плеск воды из «шаек» и звонкие хлопки по голым, упитанным телесам. Я спросил маму:
— Народ ест недостаточно сытно, а почему русские женщины такие широкие, да мясистые?
— Милая, от хлеба, от сала и картофеля всегда разносит.
Мы протолкались в угол, где помыли друг друга, а потом занялись интенсивной стиркой. В итоге я была очень довольна. А когда закончили и сполоснули, то сунули белье в пустую шайку, спрятали под скамью, а сами пошли в парную.
— Как раз для моих косточек, — восхитилась мама и влезла на вторую полку. Я с большим трудом выдержала несколько минут в этой сгущенной, парной атмосфере, где никто никого не видел, а только стонал от удовольствия. Запах распаренных березовых веников был так радостен и приятен, но я вышла. Это уже не для моего сердца.
Теперь за занавеской стоит еще одна кровать, и мы спим рядом… Я люблю бродить по базару, толкаться среди людей, торговаться за пару копеек, которых мне совсем не жалко. Днем покупать легко, а уж к пяти, когда все возвращаются с работы — трудно. Ведь и на работу идут с авоськой: пригодится на обратном пути. Я несу домой авоську, набитую всем. И слава Богу, что соседи не видят, что я несу. Да, но они прекрасно понимают, что там не картошка и сало, а более вкусные вещи.
Володя как-то сказал:
— Приходи к вокзалу, буду петь новую песню. Блатари привезли.
Я пошла, но так, чтобы он не знал. Пассажиры, ожидающие поезда с удовольствием слушали его песни, которые были не совсем безобидными. Правда, при приближении милиционера он менял репертуар, и публика прекрасно его понимала улыбалась и давала более щедро.
Вот, что я услышала:
Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный
И мой товарищ — серый, брянский волк.
За что сижу — по совести не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
И вот, сижу я в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.
И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры строги и грубы.
Я это все, конечно, понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
В чужих грехах мы с ходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Мы так вам верили, родной товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе!
То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра…
Когда-то вы из искры раздували пламя…
Спасибо вам — я греюсь у костра.
Товарищ Сталин, ты не спишь ночами,
Прислушиваясь к шороху дождей,
А мы лежим на нарах штабелями,
И нам чужда бессонница вождей.
Я вижу вас, как вы в партийной кепке.
И в кителе идете на парад…
Мы ж рубим лес, а сталинские щепки,
Как прежде во все стороны летят.
Вся грудь вождя в наградах и медалях
И волос от заботы поседел
Ведь вы шесть раз из ссылки убегали,
А я, дурак, ни разу не сумел.
Живите ж сотни лет товарищ Сталин!
И коль придется тут подохнуть мне,
Росло бы только производство стали,
На душу населения, в стране!
Едва певец окончил, как из толпы выступил солидный человек с портфелем под мышкой, с рачьими глазами и упитанным животиком.
— Как же это понимать ваши насмешки? — сурово спросил он.
— Как кто может, тот так и понимает. Все от мозгов зависит.
— То есть, вы просто смеетесь над памятью создателя советского государства, так?
— Я не знаю, какая у него память была, но нам его забыть трудно!
— А ведь эта песня — чистая контрреволюция!
— Если бы я смог спеть песню про гниду с портфелем, то… но она еще не написана!
В толпе засмеялись.
— А вот позову постового, да отправлю в район, а там посмотрят, что за тип…
— Прошли, зануда, времена, когда такие, как ты, из порченого яйца цыплят высиживали…
— Да ты что тыкаешь? Думаешь, что инвалид, — так тебе можно черт знает, что петь да оскорблять честных советских строителей социализма? Мне только свистнуть…
— Во-во. Это случится, когда черт помрет, а он еще и болеть не начал.
Хохот покрыл слова Володи, да и я засмеялась. Толстяк свирепел.
— Не напрашивайся, а то так приварю, что полгода кровью харкать будешь,— спокойно сказал Володя.
— Да, как ты смеешь!? — Крикнул партиец, размахивая портфелем.
— Я? А ты, что свои болезни чужим здоровьем лечить хочешь? Когда я свою жизнь за родину отдавал, ты по верху плавал, да и сейчас не тонешь!
— Я не из того материала, что тонет!
— Во-во, дерьмо собачье. Я служил родине, был верен присяге, а теперь 32 рубля за два обрубка… (Я поняла, что Володя уже не владеет собой).
— Еще неизвестно. Ноги можно потерять и по пьяной лавочке, — был ответ.
И не успело этот прозвучать, как Володя в два прыжка, перебирая руками, добрался до обидчика и, схватив его за ступни, с силой дернул их на себя.
Человек визгливо закричал и, взмахнув руками, грохнулся оземь, ударившись головой о тумбу. Из раскрывшегося портфеля разлетелись бумаги.
— Подальше от греха, а то в свидетели попадешь и виноватым станешь…
— У нас недолго — раздались голоса среди зрителей. Володя ударил по лицу упавшего.
— На ж тебе, зараза!
Я бросилась к нему.
— Оставь, Володя, оставь! Что ты делаешь? Не смей!
— Сестренка, а ты как тут очутилась? — сразу пришел в себя брат.
С крыльца вокзала, вереща свистком, торопливо бежали два милиционера.
Размазывая кровь и слезы с разбитого лица, пострадавший, вереща тонким голосом обиженного ребенка, собирал бумаги, стряхивая с них конский навоз.
Милиционеры, ловко подхватив Володю за руки, поволокли к вокзалу. Оскорбленный, стараясь, так чтобы не видели милиционеры, острым углом своего портфеля ударить свою жертву по лицу, а потом забегая сзади, носками крепких ботинок бил брата по его обрубкам, а Володя громко поливал его грязной, площадной бранью.
Я, положив гармонь на тележку, плелась сзади этой процессии.
В милиции брат резко изменил свою политику, восхваляя советскую власть.
Жертва насилия, — толстяк, размахивая какими-то бумагами, требовал возмездия.
Только я пыталась заступиться за брата, хотя он и умолял меня уйти.
Вот тут я поняла, что мне не следовало впутываться в эту историю.
— Где вы живете? — спросил составитель протокола. Я сказала.
— Позвольте — это тот же адрес, что у Жукова?
— Я у них в гостях живу. Я его сестра. Я — приезжая.
— Ага, а вы прописаны там на площадь?
— Да, временно.
— Покажите паспорт, — и на стол вокзального отделения города Глухова лег никогда невиданный там темно-серый американский паспорт, с золотым орлом.
— Это что такое?
— Мой паспорт, я американка.
Наступило растерянное молчание. Начальник осторожно, не веря своим глазам, взял книжку, перелистал ее до той страницы, где увидел знакомые буквы штампа паспортного стола.
— Так-так, — растерянно сказал он.
Пострадавший, наоборот, воспрянул духом.
— Видите, гражданин начальник! Одна шайка. Пишите протокол. Я его закатаю!
Сделав себе какие-то отметки, начальник отпустил меня, но оставил брата. Когда Володя вернулся, он был мрачен и неразговорчив. Я, конечно, маме ничего не сказала. Зачем ее волновать? На мои вопросы Володя бросил:
— Кажется, влип. У этого паразита рука в горсовете. Ну, теперь видишь, как живем. Живем, как в раю, да на самом краю. Рядом с адом. Постарается пришить дело. Видно, что парень свистать не любит. Делишечки!..
Но избавление пришло само.
Начальник железнодорожного отделения милиции, который составлял протокол, как видно, имел богатый опыт в области своей работы. Спустя три дня, он пришел к нам в штатском и представился:
— Узнаете меня? Я же составлял протокол на вашего брата.
— Какой протокол? — испугалась мама. — Опять?
— О, — воскликнула я, — да-да! Помню, конечно, помню!
— Так вот, я бы хотел иметь с вами разговор, с глазу на глаз.
— Мамочка, ты не волнуйся, это Володя немного пошумел на улице.
Мама вышла.
— Мне кажется, — сказал гость, — что всю эту некрасивую и опасную для бывшего бойца историю можно аннулировать. Подшить к делу, так сказать.
— Как же? — обрадовалась я.
— Я думаю и даже уверен, что смог бы уговорить товарища Сухова прекратить дело и не передавать его в суд. Вы же понимаете, тут и драка, и непотребные песни, и выпады по адресу партии и правительства. Тут могут столько параграфов набрать, что брата не только посадят, но и вышлют в те места, о которых он пел. Понятно? А тут еще вы, из Америки.
Одним словом, разговорчивый и любезный гость получил двадцать пять рублей и порвал протокол.
Я вздохнула свободно…
Странный я человек. Если бы мне кто-нибудь сказал, что так будет, я бы рассмеялась, но это так. Ведь, живя в Америке, я совсем забыла, что где-то на свете есть Глухов и что в нем мама. А вот теперь, живя в нем, да и в каких еще условиях, я почти забыла, что есть Америка, мои дети, муж.
Как это может быть? Где-то в глубине своего сознания я помню о них, как будто бы думаю, а вот мое сегодняшнее бытие с базаром, очередями, толкотней, квартирными неудобствами, бабьи сплетни и весь этот быт целиком заполнил мою жизнь и вытеснил самое главное — мою семью!
Я встаю утром, полная хозяйственных забот, и ложусь с мыслями о том, что надо сделать завтра. Но, конечно, главный стимул, главный двигатель всех моих поступков и чувств — мама! Она всегда со мной, даже тогда, когда я на базаре пробиваюсь к какой-нибудь хохлушке, чтобы купить крынку сказочного молока с коричневой пенкой и неизъяснимым, единственным в мире запахом.
Неужто и теперь, когда я имею семью, огромная, притягательная сила любви и жалости к матери заглушает все? Странная я!
А может быть, не только это? Ведь я дышу воздухом моей земли, где родилась и где выросла. Вижу вокруг все то, что вошло в плоть и кровь мою, и никакая сила этого не вырвет. Вот этот дом с облупленными стенами, эту колонку, от которой я девчонкой таскала воду, эти вот яблони во дворе, на которые мы, дети, взбирались, играя… Ах, да что говорить! Каждый кирпич мне здесь близок, нужен и любим. Кстати, я заметила, что фруктовые сады при домах сильно поредели. Соседка пояснила:
— А чего ж, милая, их держать? Мы когда-то эти яблоки да груши продавали торговцам, прямо с дерева, оптом, так сказать, на корню. И забот не знали, и прибыль имели. В советские времена сами стали возить фрукты на базар, на своем горбу, а нас обкладывали таким налогом, что вся эта торговля была сплошной убыток. А если скупает государство, то по таким ценам, что при том труде, что надо вкладывать, ухаживая за плодовым садом, плюс налоги — получается, что смысла нет. Ну и большие, хорошие деревья, наши кормильцы, пошли в трудную минуту на дрова, а их было много, минут-то! А те, что остались, для себя держим. Эх, милая, не те времена, не те!..
Коротенькие письма из дому о том, что все в порядке, за тремя подписями, меня вполне устраивали. Муж понимает, что это — главное. Я отвечаю тем же. Мне казалось порой, что я как золотая рыбка: жила в аквариуме с фильтром и отборным кормом, а вот бросили меня в пруд с простой водой — я ожила и омолодилась. Смешно, но я таскаю воду на коромысле — и хоть бы что!
Я опростилась удивительно: судачу с соседками, но избегаю «острых» тем, хожу с мамой по людям, сижу вечерами с мамой на улице, на лавочке и лущу семечки. А над нами огромная украинская луна и слышны далекие чарующие песни родного народа. Ах, как хорошо!
Я познакомилась с Володиной «дамой сердца», которая, если не инвалид труда, то инвалид души. Она партийная, но так же разочарована в жизни, как и ее друг. Отчаянная женщина, прекрасный работник, но пьет не меньше своего друга, делает прогулы, получает выговоры.
— Жизнь рухнула… Мне море по колено. Мужа война забрала, детей — так называемый Бог. Один Володька только у меня и есть, да и то верхняя половина, — и смеется, — а то, что там мировая революция и бесклассовое общество, то это все мне, как до лампочки. Своя рубаха ближе… Все остальное тоска, да еще едкая…
Погода была хорошая, теплая, ласковая. Мы с мамой купили на базаре два воза дров (один — березовых), привезли. Володя позвал кого-то из своих собутыльников, они попилили.
А на другой день он их рубил, и делал это легко и свободно. Аппетитно крякал, и с размаху всаживал топор в ароматное дерево, которое с приятным звоном раскалывалось. Создавалось впечатление, что его незавидный рост из-за того, что он рубил сидя, только помогал ему. Я носила поленья и складывала их в сарайчик, где в полу еще была выкопана яма для картофеля. К концу дня я была такая уставшая и довольная, что завалилась спать, не поужинав. И получилось очень удачно, ибо на другое утро мы проснулись от шума проливного дождя.
— Этот может зарядить надолго. Осень, — сказала мама. — теперь надо картошки запастись, да засолить еще чего-нибудь. Вот и зима не страшна!
— Сделаем, мамочка, все сделаем!
Я чувствовала себя бодрой, сильной и счастливой: я полезный член семьи! Через два дня дождь перестал, но кругом стало неимоверно грязно. А тут прошел слух, что в пятницу у ларька будут давать картофель. Я предлагала купить на базаре — хороший, свежий, отборный, но мама воспротивилась. Володя тут был беспомощен, но все было обусловлено: за то, что мы поможем соседке привезти ее картофель, она нам даст свой возок —тележку на двух колесах с оглоблей, и мы потом с мамой привезем себе…
Так и сделали, но когда мы укладывали свой груз, мокрый, перемешанный с землей, то пошел дождик, и мы, скользя и чертыхаясь, потерпели неудачу.
Мама везла, а я сзади, согнувшись в три погибели, подталкивала. То мы попадали в выбоины с водой, то в густую грязь. Не знаю, кто виноват, но, может быть, я слишком нажимала, или мешок был старым, но он лопнул, и вся картошка из него высыпалась. Пришлось развязывать три других и добавлять туда собранную на мостовой. При повороте на нашу улицу мы остановились, чтобы отдохнуть (в который уже раз), когда мокрая оглобля выскользнула из маминых рук, взвилась вверх — счастье наше, что не разбила маме лицо — и все мешки сползли наземь.
Пришлось опять укладывать обратно, а это было не легко.
Мокрые, потные, измученные, мы въехали во двор, открыли огромный висячий замок на сарайчике, где уже лежали сладко пахнущие сосновые и березовые дрова, и ссыпали груз в яму, предварительно протерев каждую картофелину. Стоило так трудиться?
— А что это вы, Степановна, скупитесь? Не могли на базаре взять отборной картошечки. А то надрывались, и дочку замучили, — сказала соседка.
Ах мама, милая предусмотрительная мама: пока мы возили картофель хозяйке тележки и себе, вода в котле согрелась, и мама, притащив висевшую в коридоре большую круглую бадью (Боже, сколько ей лет?), выкупала меня в ней и уложила отдохнуть.
— Это тебе не Америка, — пожурила она меня.
— Да мамочка, это родина!
Я люблю разговаривать с Володей, когда он в хорошем настроении. Он говорит известные для них вещи, но для меня они звучат откровением.
— Ты вот, после своей Америки, вареную картошку на подсолнечном масле ешь, как свиную отбивную, а для нашего народа картошка это все. Мы ведь еще в 48 году голодали на полный ход, а в пятидесятом тысячи людей жили в землянках. Народ устал, он боится новой войны, все надоело так, что рады всему, лишь бы был покой и сытнее жилось. Хватит крови, страданий и войн. Люди жить хотят, они не двужильные. Партийцы и ответственные имеют все, а мы — ты сама видишь.
— А почему бы тебе не пойти в партию?
— Продать себя за паек? Я голодный, но свободный. Мои песни народ любит. Я его и радую, и веселю, и понимаю. Я вот помню, когда Хрущев смешал с грязью «Нашего Отца» и мучителя, да еще выбросил из мавзолея, как народ радовался. Мы были уверены, что наступят лучшие времена, и, конечно, теперь лучше, уже далеко не то. И помню, что пел песенку, в которой были такие слова:
И в грохоте фабрик и шелесте нив
Спасибо за «солнце», что ты погасил!
Мне так хлопали и сыпали мелочь, как никогда. Все понимали, какое солнце погасил Никита. Это самый великий антикоммунист в мире. Еще будет время, когда благодарный народ поставит ему памятник.
Когда он его выкинул из мавзолея, весь их мир затрещал. Такую особу! И вдруг к чертям собачьим — в могилу! Скандал! О, Никита, люблю его, кукурузника! Умница, хоть и простой человек, но голова у него светлая, как и лысина!
А что до меня, то что меня ждет? Жениться я не имею права, я не кормилец, я — балласт, обуза. А как я живу? Как ночной сторож на чужом складе. Все воруют, а я отвечаю! Не удалась жизнь. Я хорошо знаю, как не надо жить, но я же и не знаю, как жить надо. Правда, страна наша богатеет не по дням, а по часам: при социализме хлеб купуемо, а при коммунизме будем покупать все остальное. Усекаешь, чем пахнет?
— Бедный мой братик!
Конец V части.
Каждую субботу вечером мама ходит молиться. Эта, как мы называем, «катакомбная» церковь собирается у кого-нибудь на дому, и каждый раз по новому адресу, куда приходит человек, который знает всю службу, люди вполголоса поют песнопения, а потом бывает беседа на духовную тему. Как я ни просила, мама меня с собой брать не хотела — боялась.
— Деточка, все может быть: и облава, и донос, и арест. Зачем же тебе рисковать. Ну, что нам будет? Разгонят, перепишут, возьмут на заметку. Конечно, духовнику не поздоровится, а уж тебе-то, чужой, ни за что не простят. Вышлют в два счета. У нас собор открыт и два священника есть новых, молодых, но не верим мы им. Они ж окончили семинарии при Советах, и у них же звание священника. На исповедь к ним считанные люди ходят, самые старики. Нет, уже это не наше духовенство…
Но я ее провожала, а потом встречала, мы шли по темным улицам города, и она мне рассказывала, как все там происходило. И была она какая-то просветленная, радостная, добрая. Так бы и шла с ней всю жизнь! Но внезапно наступил конец нашему благополучию.
Как-то днем, возвращаясь с базарной площади, где были магазины, я увидела около нашего дома человека с потертым, брезентовым портфелем. Он разговаривал с соседкой; когда я приблизилась, она указала на меня пальцем и поспешно ушла.
Человек вошел за мной во двор и в квартиру.
— Вы дочка гражданки Жуковой?
— Я.
— Это ваша фамилия на повестке? — я посмотрела. — Если да, то распишитесь.
Он вынул разносную книгу, в которой лежало несколько запечатанных конвертов, и, дав мне мой — ушел.
Я вызывалась в главное управление глуховской милиции. Были указаны день и час. У меня екнуло сердце. Такие вещи здесь происходят неспроста, и люди от них добра не ждут. Ни Володе, ни маме я ничего не сказала и пошла. Там меня направили в комнату, где стояла надпись “спецчасть”.
В ней сидел мужчина, который хотел казаться суровым. Он проверил мой паспорт, посмотрел в какую-то папку, потом указал в телефонную трубку:
— Дежурная, дайте «особый», — обождал услышал ответ и продолжал: — пришла.
Чей-то голос начал что-то говорить.
— Есть, товарищ начальник. Слушаюсь. — и повесил трубку.
— Вам (он назвал мою фамилию), предлагается покинуть пределы Советского Союза в течение 48 часов.
Я даже присела от изумления.
— Почему? За что? В чем я провинилась?
— Если высылаетесь, значит вина есть. У нас не ошибаются. Я не знаю подробностей, — сухо сказал он, — но вы оказались замешанной в какой-то драке у вокзала! Распоряжение из Киева. Вот, распишитесь в получении приказа.
— Какая драка? Этой мой брат…Я…
— Ничего не могу поделать, и не пытайтесь даже хлопотать. Из этого отдела распоряжения обжалованию не подлежат.
Я расписалась взяла бумажку и, как убитая, поплелась домой, хотя убитые предпочитают лежать. Прохожие с удивлением смотрели на идущую и плачущую женщину. Прежде это, наверное, никого не удивляло.
Когда я вошла, мама была дома.
— Детонька моя родная, что с тобой? Кто тебя обидел?
Я молча протянула ей бумажку. И знаете, что я услышала?
— И слава Богу, Валечка. Езжай к своим ребятишкам, мужу, семье. Они же скучают, тоскуют, только не пишут зря, что ты у родной матери. А ты же тоже им мать родная. Пошто их покинула? Я же знаю, по твоим словам, как вы все друг друга любите, как дружно живете — езжай, милая, с Богом, а мы тут с Володей заскрипим по-старому. Хоть не будет зависти, да перешептываний за нашей спиной.
— Какой зависти, мама?
— Господи, да ведь мы уже стали не как все: и едим, и живем, приоделись лучше других. Человек не терпит того, чтобы равный ему вдруг стал жить лучше. Разве ты не знаешь, что есть люди, которым хорошо, когда другим плохо? Мы же здесь теперь не как все: ни в чем нет недостатка, все через Америку.
Ты вот, не спросясь меня, в жилуправу пошла, хотела меня с Володей в лучшую комнату переселить. Добро хотела сделать, а как оно обернулось? Ты ж не знаешь? Слух пошел, что ты хотела там взятку дать, да все неподкупные оказались, и тебе там с позором отказано было. Тут уж промеж соседей такого наговорено было, что белое сразу черным стало. А ведь мы-то знаем, что там без мазу ничего не дается. Тем и живут. Ладутом.
А еще: вот вечерами выходим мы посидеть у калитки, семечки полущить и лясы поточить с бабами: и одета ты, как все, и разговор такой же, а все равно ты чужая, потому что живешь так, как не снилось никому. Вот тебе в рот заглядывают, слушая твои рассказы, как вы там живете, а ты не удержишься, особенно, помнишь при той толстухе, что начала ругать вашу Америку, как ты всполошилась и стала ее защищать. Она ведь нарочно тебя подначивала, а ты и пошла: и сколько у тебя комнат и как легко отопить дом, повернув кружок на стене и все! Как легко постирать: белье в машину, а сама к телевизору. Как вы садитесь в машину, едете в магазин, накупаете всего на неделю, сунули в холодильник, и за полчаса все хлопоты кончены. А мы часами блукаем, да в очередях стоим, чтоб подешевле, да посвежее. А то индюка в духовку сунули, и через полчаса он сам готов. Кушайте пожалуйста! Верит народ или нет, но озлобляется. На что? На свою жизнь проклятую, на судьбу, на долю! А кто виноват? Разве он? Нет, выходит — советская власть. Значит ты ее хаешь. А уж твои рассказы не лежат на месте, живо идут по городу. А к тебе может и нарочно таких подсылают, чтобы ты откровенно говорила. Чтобы обвинить потом.
— Мамочка, да почему же ты не сказала?
— Говорила, милая, говорила, да забывала ты. Мы промеж собой и то не говорим все, а уж с чужими людьми никак не скажешь, что на сердце — поостережешься. Правда, теперь так не арестовывают, не ссылают, как когда-то, но и на заметку никто не хочет попадать. Думаешь, не больно мне, — говорила мама, — расставаться с тобой? А все же буду спокойнее, когда ты у себя дома будешь, а не у меня. Если захотят придраться, то никакой паспорт не поможет.
Я молчала…
Итак, даже родная мать была за то, чтобы я покинула ее. Выгоняла…
Володе мы ничего не сказали, и я стала укладываться. А что укладывать? Один чемодан с моими вещами, вот и все. Остальное оставляла.
Володя сам увидел:
— Что такое? Почему, куда?
— Домой, Володенька. Зовут меня уж, засиделась, хватит.
— Конечно, они правы, а жалко. Опять приедешь, а? Спасибо, сестренка, здорово нас поддержала. Не забывай и надалее. Шли вещицы, а мы их тут к ногтю.
Теперь молчала мама. Когда на другой день Володя уехал, она сказала:
— А теперь, Валюша, тебе от меня последний наказ. Любишь нас? Дорожишь нами?
— Что ты такое спрашиваешь, мама?
— Так вот тебе мое последнее слово: не шли нам ничего. Понимаешь это слово — «ничего». Я хочу жить, как все люди в моей стране. Жили, хватало, концы с концами сводили, Бог миловал, и будет с нас! Не хочу ни сплетен, ни косых взглядов, ни едких вопросов, ни зависти людской. Хочу, чтобы меня и брата твоего любили за то, что мы такие, как мы есть, а не за то, что у нас можно купить туфли или блузку. И потом, ведь пьет он из-за этого, лишние деньги появились. Так берег каждую копейку и в дом нес, а так — все из дома, а я плачу, и его в конце концов посадят. Тебе ж это понятно, деточка родная? От твоего добра — одно зло получается. Миллионы людей у нас живут так, просто безо всяких — проживем и мы. Побожись, на икону!
И я обещала.
В последнюю ночь я лежала около мамы и говорила, как я ожила от ее тепла, дыша родным воздухом, под родным небом. А она ответила:
— Родное небо там, где семья, где дети. Там и солнце теплее, там и дышится легче. Вернешься, поймешь свой долг, а он у тебя один: детей на ноги поставить, людьми сделать, быть другом и помощником мужу. Нет у нас, женщин, других обязанностей. Прав мало, а вот обязанностей хоть отбавляй. Вон, перепелка под ноги собаке кидается, отваживая ее от своего гнезда, а мы умнее птицы. Вот и береги свое гнездо, пока оно есть и крепкое. Улетят птенцы, вдвоем с мужем останетесь, тогда еще дороже друг другу станете. А я буду за вас Богу молиться: Он услышит, Он милостивый!
И мама сняла со своей высохшей, старой груди маленький образок, памятный мне еще с детских лет, и сказала:
— Первому внуку наденешь на шею, когда крестить будешь!
Я уехала. Зачем говорить вам, как разрывалось мое сердце, видя слезы мамы и Володи. Даже лицемерные соседки, и те утирали сухие глаза, прощаясь со мной. Но я знала, твердо знала, что часть моего сердца я оставила в родном городке, в заросшем лопухом дворе и темном жилище моей мамы. И стало сердце с трещиной.

Встреча с мужем и детьми была огромной радостью. Началась рутинная жизнь для семьи. Я, наверное, ненормальный человек, больной, не такой, как все. А может быть, я вступила в то смутное время, время сожалений, похожих на надежды, и надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не наступила.
Теперь на весь мой достаток, комфорт и сытую жизнь легла тяжелая тень. Как на свою, так и на чужую — я смотрю с отвращением. Когда мы в гостях, с бокалами, сидим и болтаем всякую ерунду, у меня перед глазами мамин полуподвал, керосинка и я ощущаю запах картофеля на конопляном масле.
Как я могла сидеть в теплой, ароматной ванне, когда мама под дождиком тащит от колонки ведра с водой, чтобы, нагрев ее, купать в корыте моего калеку-брата? Мокрого и озябшего. Я ненавижу свою жизнь, я считаю, что я преступница, живя в таких условиях, зная, как живут мои близкие. И я не могу, не имею права помочь им. Мне запрещено.
Может быть, это была моя ошибка, что я поехала туда и все увидела сама. Я ведь даже не допускала мысли о такой жизни. Я забыла, что она была такой при мне, и ничуть не изменилась, если не стала хуже. А вот, увидела и погибла. Я сижу в кресле, смотрю на моего довольного мужа, смеющихся детей и не радуюсь. Почему?
Американский фильм про домохозяек 1960-х. Счастливая страна, которой осталось немного до погружения в бездну.
Как же я могу радоваться, когда знаю, что где-то за десятки тысяч миль от меня, моя старушка по глубокому снегу бродит в мокрых валенках по базару, покупая что-либо на обед. Если б я не убедилась сама, какая есть еще жизнь на свете, да еще у дорогих для меня людей — я б не поверила рассказам. А я увидела. Узнала. И вот теперь нет мне покоя, нет мне прощения. Совесть не дает мне покоя. Горит у меня внутри. Мой муж все знает, видит мои страдания и хотел бы все сделать, чтобы я пришла в себя, вернулась бы к нему и детям по-настоящему, но и он бессилен. Да и кто может наладить мою жизнь, показать мне правильную дорогу, дать мне покой. Кто может помочь мне? Никто!
Америка 1970-х – злые черные ветераны Вьетнама. Нью-Йорк и вся Америка, погруженная в расовую войну, которая с тех лет не утихает…Послевоенный медовый месяц американских элит со своим народом закончился.
В бессонные ночи я лежу в теплой спальне, смотрю в темноту, я вижу маму на коленях у иконы и слышу — о, я никогда не забуду — стук тела, сползающего по ступенькам полутрезвого брата. Я же сойду с ума…
— Ну, вот вы ответьте мне, как же жить дальше?

Конец